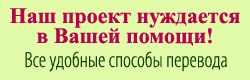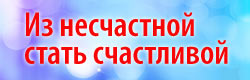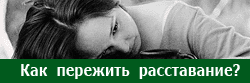Жить стоит. Повесть. Часть 2
8
Был конец апреля, в Евпатории все цвело. Мою койку выносили прямо в сад — ведь воздух и солнце были единственным моим лечением. Как-то я попросила у врача разрешения остаться в саду и на ночь — ночи были такие ясные. И море было совсем рядом. Моя койка стояла в кустах сирени, а чуть подальше и повыше висели грозди акации, вся земля была усыпана белыми лепестками.
Вечерами бывало особенно трудно, время тянулось так долго. Томило одиночество. Ночью над головой горели звезды, и все они казались мне счастливыми и... чужими. Когда-то, вот в такую же звездную ночь, мы с ребятами поднимались в горы, чтобы встретить рассвет. Тогда над моей головой светила моя звезда... Тогда все было моим...
И почти ежедневно получала письма от мамы и от Алика. Алик писал: «Я буду тебя ждать. Буду ждать столько, сколько потребуется для твоего выздоровления. Если надо, я буду ждать всю жизнь». И другом письме: «Ты должна быть здоровой, слышишь? Это надо не только для твоего счастья, но и для моего. Ты ведь любишь меня, ты не позволишь, чтобы я остался в жизни несчастным, а без тебя я буду несчастным».
Я любила его. И я изо всех сил старалась быть здоровой. Но с каждым днем мне становилось хуже. Об этом я не писала. Наоборот, сфотографировалась улыбающаяся, в цветущей сирени, одну карточку послала маме, успокаивая ее, другую — Алику, успокаивая себя.
Неожиданно мое одиночество кончилось. При санатории жила санитарка с маленьким сыном Семеном. Я научила его играть в шашки, потом в шахматы, потом заинтересовала разными историями из когда-то прочитанных мною книг. Я рассказывала ему о Москве, о поездах, обо всем, что любила в жизни. Сеня умел и слушать и спрашивать, и мне никогда не было с ним скучно. Он был ласковым и согревал меня, спасал от тяжких и горьких мыслей. Вернувшись в Москву, я долго тосковала по нему. Посылала детские книжки, а Сеня писал мне трогательные письма. Потом как-то гостил с матерью у нас в Москве, да и сейчас мы с ним друзья. Письма он по-прежнему подписывает: «Навсегда ваш друг». Но уже не называет меня тетей Ирой — он давно стал взрослым, отслужил в армии и сейчас с отличием окончил медицинский институт. Может быть, мысль о профессии врача подска зала ему моя судьба, которую он так близко принял тогда к своему детскому сердцу?..
И еще один человек вошел тогда в мою жизнь.
Однажды ко мне подошел высокий рыжий парень из нашего санатория и спросил:
— Вы что же, и ночью тут лежите?
От него слегка попахивало водкой. Мне стало не по себе, и я ответила, что ночью перебираюсь в палату. Назавтра он пришел снова:
— А вы обманули меня! Я ночью специально выходил проверять и увидел, что вы здесь.
Мы оба поняли друг друга, засмеялись и познакомились. Его звали Сашей, он работал техником на заводе. С того дня Саша стал часто приходить ко мне и проводил у моей постели много часов. Как-то привел нескольких парней из своего корпуса, они подхватили мою кровать и понесли к спортивной площадке — начинались соревнования по волейболу. Потом они решили переносить меня вечерами к летней сцене — в кино или на концерты. Первое время я очень стеснялась, особенно отдыхающих из других санаториев, и ребятам приходилось долго меня уговаривать. А потом привыкла. И к моей койке тоже все привыкли. Теперь я уже не страшилась вечеров — я не была одинока. Саша то собирал мне цветы, то приносил «для аппетита» керченскую селедку. Брал для меня из библиотеки книги и доставлял письма.
Он уже знал про меня все. Знал, что рушится сейчас моя жизнь. Рушится любовь. Как-то, увидев меня особенно грустной, сказал:
— Он будет ждать вас, Ира. Когда любишь, можно ждать всю жизнь.
Я даже вздрогнула, так совпали его слова с тем, что писал мне Алик. И — снова поверила...
Потом пришло время Сашиного отъезда. Я успела привязаться к нему всей душой и знала, как мне будет его недоставать. Накануне отъезда Саша предложил:
— Давайте, Ира, попробуем добраться разок до моря. Кто знает, когда еще вам придется увидеть его.
Это была и моя мечта, только неловко было просить, чтобы помогли дойти.
Я поднялась с постели. Море было близко, но шли мы долго и трудно. Саша нес меня к морю на руках. Нет, он ничуть не стеснялся любопытных взглядов встречных. Он и меня научил не замечать жестокого любопытства посторонних.
Возле воды Саша нагнулся и потрогал рукой песок:
— Попробуйте, Ира, какой горячий!
Вспомнил, что мне не нагнуться, набрал горсть, пересыпал в мою ладонь. Песок действительно был горячий. А море? Море было безмятежно спокойное, и ему не было дела ни до меня, ни до моей беды...
На следующий день мы прощались. Столько хорошего хотелось ему сказать, но Саша опередил:
— Спасибо, Ира, мне было очень хорошо с вами. И домой я возвращаюсь с чистой совестью — водку не пил и жене не изменял!
Пошутил? Я не ответила. Только навсегда запомнила добрые, улыбчивые глаза.
А еще через неделю уезжала и я.
Московское лето было в разгаре. На вокзале меня встречала вся семья и, конечно, Алик. Он еще издали увидел меня в окошке, поднял руки с цветами и... молча опустил: я не могла сама выйти из вагона.
Алик заканчивал дипломный проект, через несколько дней должна была состоятся защита. Забегал он поздно вечером и тут же убегал. А я целыми днями лежала одна в ожидании места в больнице. С утра все уходили на работу, и я оставалась наедине со своими невеселыми мыслями. Неужели врачи бессильны и для меня навсегда потеряно все, что составляет простое человеческое счастье?
Двадцать девятого июля состоялась защита дипломного проекта, а вечером мы отметили успех Алика. Это был канун дня, на который мы с ним давным-давно назначили свадьбу. Наверное, наша свадьба была бы красивой, как, впрочем, и все свадьбы.
Алик хотел, чтобы его родители пришли в этот вечер ко мне, но они отказались, и оттого было еще горше. Они, видимо, боялись своим визитом еще больше связать его со мной. Если раньше его мать относилась ко мне благосклонно, то теперь была настроена враждебно — не ко мне, конечно, а к тому, что моя судьба грозила несчастьем ее сыну. Я понимала ее. По крайней мере, старалась понять.
Это был наш последний вечер вдвоем. Несмотря ни на что, нам все еще было хорошо друг с другом. В девять часов вечера я уговорила Алика пойти домой — ведь этот день по праву принадлежал не только нам, но и его родителям.
Через несколько дней мама и Алик отвезли меня в больницу. Прощаясь, Алик сказал: «Я буду ждать тебя». Но смотрел он куда-то мимо...
9
Никогда прежде я не была знакома с такой больничной палатой. Меня потрясли искалеченные, неподвижные люди, высокие кровати на колесах, с бортами, костыли...
Вот когда я по-настоящему осознала то страшное, что неотвратимо надвинулось на меня. Я почувствовала это с особенной силой, когда и меня уложили неподвижно в гипсовую кроватку, к которой я долго и трудно привыкала.
Но прошло несколько дней, и первое впечатление, такое тягостное, стало рассеиваться. Я увидела, что и здесь — жизнь. Палата жила напряженной трудовой жизнью, и была здесь та же сила дружбы, какая всегда объединяет людей в борьбе.
В палате нас лежало десятеро, и я оказалась самой старшей. Единственная на всех, я уже окончила институт, работала инженером, и как-то сразу так получилось, что я стала здесь старшей во всем. Ко мне обращались с вопросами, советовались, делились переживаниями, очень считаясь с моим жизненным «опытом»,— а мне едва стукнуло двадцать пять! Вот так я и поняла, что здесь я должна быть сильной.
Весь первый год больные в палате почти не менялись. Больше других я сдружилась с двадцатитрехлетней Марийкой, веселой, жизнерадостной, общительной. С ней было интересно разговаривать, легко дружить. Вечерами она пела нам грудным, проникновенным голосом. А потом, выздоровев и выйдя на больницы, сразу всех нас забыла. Странно, что такие общительные, уживчивые люди порой не умеют глубоко привязываться к друзьям... Но тогда мне рядом с Марийкой было хорошо. Мы с ней все делили пополам. В Москве у нее не было родных, и я делилась с ней даже своими посетителями, которых с первого же дня было у меня очень много, так много, что врачи часто сердились за это: отделение наше было детским, и они боялись инфекции. Мои близкие и друзья быстро становились общими друзьями всех девушек в палате, и мы принимали их вместе и делили их передачи между собой.
Чуть позже подружилась я и с другой своей соседкой — Леночкой. У нее было трудная судьба. Война застала ее в Белоруссии, она жила почти у границы. Когда ей было двенадцать лет, гитлеровцы угнали ее вместе с семьей в Германию. Там семья Лены жила в лагере, в крупном промышленном центре. Работали на немцев не разгибая спины даже дети. Во время одной из бомбежек погибли мать и отец Лены, а сама она была тяжело ранена. Ее выходил наш же врач, военнопленный, грузин. Он не только лечил Лену, но и делил с ней кусок хлеба. Девочка выжила. А потом у нее начался костно-туберкулезный процесс. На ее руках оставались двухлетний брат и четырехлетняя сестра. Днем Лена работала, запирая их одних в бараке, а ночью занималась своим незатейливым хозяйством. Всех их освободили американцы, но им еще долго пришлось мытариться на чужой земле. Когда Лена наконец вернулась на родину, она была уже тяжело больна и не могла передвигаться без костылей. Младших детей взяли в детский дом, а Лену послали в Москву лечиться. Я видела в жизни немало щедрых людей, но Лена жила так щедро, что для себя у нее не оставалось ничего. Лене почти не пришлось учиться в школе, но у нее было умное сердце, она многое умела понимать. Любили ее все. Когда через год она уезжала от нас здоровой, мы кто как мог сообща собирали се в дорогу. Я и теперь переписываюсь с ней. И когда она долго не получает моих писем, то спрашивает: «Что с тобой, Ирочка, я боюсь тебя потерять». Мы обе боимся потерять друг друга. Ребята ее давно выросли, сама же она работает в детском доме — для ее душевного богатства мало брата и сестры, она щедро дарит его и чужим детям.
Рядом с Леной лежала Катя. Она приехала в Москву лечиться из деревни. Лежа в постели, оканчивала десятый класс. Была она бойкая, острая на язычок, красивая — походила на цыганку, огромные черные глаза так и горели. Дома, в семье, было трудно. Отец пропивал все, что зарабатывал, обирал и жену и детей. Кати выписалась позднее меня. Уже в другой больнице я получила от нее отчаянное письмо. Ваграм Петрович выписал ее из больницы лишь на время, чтобы потом, когда окончательно затихнет процесс, оперировать. Катя писала, что в тех условиях, в каких она живет, туберкулезный процесс никогда не затихнет и делать операцию будет уже поздно. Говорить же о своей жизни и о своем отце кому-либо, кроме меня, она стеснялась. Сама я лежала тогда в очень тяжелом состояния — жар, боли такие, что невозможно пошевелить руками. С трудом нацарапала я о Кате какое-то не очень связное письмо Ваграму Петровичу, а ответ получила лишь через несколько месяцев, и — от самой Кати. Счастливая, она сообщила, что операция прошла успешно. Однако дома жизнь продолжала не клеиться, и как-то она написала мне: «Если бы кто-нибудь вытянул меня из этого болота, может быть, я стала бы человеком». Я понимала, что Катя надеется на меня. Но я-то сама кочевала тогда из больницы в больницу, и не превиделось ни конца, ни даже просвета в моих скитаниях. Что я могла для нее сделать? Куда я могла ее взять? Я писала ей, советовала уехать учиться, но настоящей помощи оказать не могла и очень страдала от этого. Потом Катя совсем перестала мне писать...
Была в нашей палате Лера — взбалмошное и упрямое существо, избалованное чрезмерно любящими родителями. Лечиться всерьез она не хотела и так и не вылечилась. А ведь могла бы стать совершенно здоровой, как многие другие. Девчонка она была веселая, добрая и в палатную дружбу нашу диссонанса никогда не вносила, хотя мы ее без конца «прорабатывали» за легкомыслие. До болезни она училась в консерватории по классу рояля и за внешней ее беззаботностью скрывалась большая душевная трагедия — она понимала, что пианисткой ей уже никогда не бывать...
Самой трудной была Зина. Трудной не только по своей болезни, но и по характеру угрюмому, неуживчивому. Мать оставила Зину, когда ей не было и двух лет. Отец женился вторично, жил с новой семьей. Единственным человеком, любившим Зину, была бабушка. Когда бабушка умерла, Зина осталась одна на всем свете. И — очень тяготилась своим одиночеством. Между тем за ее угрюмостью и неуживчивостью скрывалось чуткое, отзывчивое сердце, только к нему трудно было подобраться. Людям, которые были добры к ней, она сначала робко, а потом все щедрее открывала в своей душе самое лучшее. Как она тянулась к людям! Я встречаюсь с Зиной еще и сейчас. Ее мать, состарившись, вернулась к ней. Теперь они живут вдвоем.
Ярче всех в палате была Надя. Ей было двадцать два года, и в периоды между обострениями болезни она почти не чувствовала себя больной. У нее было красивое волевое лицо и отличная фигура. Надя заканчивала Ленинградский юридический и одновременно училась заочно в Институте иностранных языков. Родом она была из Ярославля, там жила ее мать. Надя была умница, сочиняла стихи, рисовала, пела. Была она порывистой, темпераментной, неуравновешенной, резкой, и в палате иногда с ней ссорились из-за этой ее резкости и нетерпимости к людям.
Очень она любила жизнь, и и тогда уже знала, что она способна на большие чувства. Больше всего привлекала она меня своей одаренностью. Она вся была — вихрь, несмотря на вынужденную неподвижность, просто таково было свойство ее натуры. Надя горела в жизни. Она не успела отдать людям и малой доли того, чем так щедро наделила ее природа.
Часами могла она держать в руках цветок и, не отрываясь, смотреть на него. Мне в такие минуты казалось, что она смотрит и не видит и думает о чем-то своем. Но завтра на ее тумбочке появлялся точно такой же цветок, и оказывалось, что она смастерила его сама, из того, что было под руками, и он почти не отличался по виду от настоящего, такая в Наде жила художница.
Изредка ее приезжала навещать мать, женщина изумительной душевной силы. И не было ничего удивительного в том, что эта простая, почти неграмотная женщина родила и вырастила одна троих таких красивых и одаренных детей. Кроме Нади, было у нее еще два сына. Ее муж работал машинистом, и, когда у них уже было трое детей, она уговорила его учиться на инженера, всю тяжесть жизни взвалив на себя. А он, получив высшее образование, бросил семью. Она не принимала от него никакой помощи, растила детей сама. Она была какая-то двужильная — все ей было под силу ради детей.
— До Нади была у меня еще дочь, которая умерла восьми лет. Я очень горевала тогда, — рассказывала мне Надина мать, — и когда родилась вторая, назвала ее Надеждой. Я надеялась, что она будет жить...
Позднее, уже выйдя из больницы, Надя полюбила человека, который, очевидно, не был достоин ее любви. Полюбила с той страстной силой, на которую была способна. Она уже собиралась стать матерью, когда болезнь снова ворвалась в ее жизнь. Эту беду муж не захотел разделить с ней, и в минуту горького отчаяния Надя ушла из жизни. Около нее не было никого, кто мог бы ее поддержать. Она только-только окончила институт...
Дома над моей кроватью висит небольшая картина, написанная маслом, — «Зимний железнодорожный пейзаж». Надя подарила мне ее в день рождении, зная, как я тоскую по поездам. На картине надпись: «Вперед, Ирочка, только вперед!»
Лет десять спустя я встретилась с Надиной мамой. Она постарела, поседела, но осталась все такой же сильной. Она сказала мне:
— Не дай бог останешься одна, без матери, — дай мне знать. Приеду и буду ходить за тобой, пока буду жива.
Еще лежала у нас в палате Ниночка — спокойная, уравновешенная, неизменно приветливая. Глядя на ее румяные щеки и светящиеся жизнью глаза, трудно было поверить, что она так давно и опасно болеет: туберкулезный процесс позвоночника шел бурно, с осложнениями, и это было одно из чудес Ваграма Петровича, когда она начала выздоравливать.
А еще были в палате две ясноглазые шестнадцатилетние хохотушки. Шумливые, озорные, они нередко вызывали досаду, потому что мешали заниматься. Впрочем, посмеяться любили мы все, по всякому поводу и даже вовсе без повода. Ведь все мы были так молоды... Помню, Алик когда-то сказал, что полюбил меня не с первого взгляда, а с первого смеха: услышал, как я смеюсь, обернулся и — так мы познакомились.
Время от времени вселяли в нашу палату совсем маленьких. Сначала они проходили карантин в боксе, а затем, прежде чем помещать их в общую детскую палату, малышей клали на время к нам.
Больше других запомнилась мне полуторагодовалая Галка. Она смотрела на нас огромными, все понимающими глазенками и хлопала мохнатыми ресницами. Ее отец был артист, и она, по-видимому, унаследовала его способности. У нас в детской самодеятельности она исполняла роль Репки. В этой роли ей не надо было произносить ни одного слова, только лежать в желтой (под цвет репы) шапке, а потом — сесть: выросла репка! И «вырастала» она с такой уморительно-плутовской рожицей, что вся палата покатывалась со смеху. Галка была у нас всеобщей любимицей. Из больницы она выписалась здоровая, и как раз когда ей пора было идти в школу.
Рядом со мной долго лежал восьмилетний Валерик по прозвищу «Ботвинник». Он обыгрывал в шахматы всех взрослых и только мне иногда «проигрывал». Это случалось с ним в дни, когда боль особенно меня донимала, и я по достоинству оценила его мужское благородство.
Валерка был болен трудно, но стоически переносил перевязки, пункции, уколы. Отца у него не было. Мать боготворила сына, стесняясь и оправдываясь:
— Он у меня такой несчастный.
Он был очень чутким. Помню, как-то заждалась я в посетительский день родителей. Молча, томительно ждала. Не знаю, как Валерка это почувствовал, но он сказал:
— Знаете, Ира, я когда очень жду свою маму, она не приходит, а как только перестану ждать — сразу придет.
Я благодарно улыбнулась и — постаралась «перестать ждать». Вскоре родители пришли.
В палате все всегда были чем-то заняты. Одна занималась в средней школе, другая — на курсах стенографии, третья заочно в техникуме, а мы с Надей в институте. Еще до больницы меня приняли на заочное отделение Московского экономического института инженеров железнодорожного транспорта. Врачи говорили, что через год-два я буду здорова и тогда смогу вернуться в строй, вот и не хотелось зря терять время и отставать от своих здоровых товарищей.
В свободное время все рукодельничали. Вышивать я умела с детства, но только здесь, в больнице, под руководством нашего педагога, научилась настоящей художественной вышивке. Картина «Закат солнца» побывала на выставке, а потом так и осталась висеть в больнице.
Палата наша помещалась в конце коридора. Рядом располагалась мужская палата, в которой тоже была молодежь. Зато все остальные палаты занимали дети. Ведь наше отделение и было детским, так что обе наши «взрослые» палаты смешно назывались «палата больших девочек» и «палата больших мальчиков». Душой отделения был, разумеется, Ваграм Петрович. И не только потому, что заведовал им: этот человек пленял своей душевной красотой каждого, кто с ним сталкивался. Он умел будить и поддерживать в человеке надежду. У него мы запасались мужеством на целую жизнь вперед. Порой мне кажется, что я и сейчас держусь его мужеством. Он знал, как много значит в жизни, особенно в борьбе, дружба, и всячески поощрял ее между больными. Мы любили его и делились с ним всем болью, душевными переживаниями, планами, мечтами, конфетами, цветами, которые приносили нам близкие. Ни на один столик не ставился букет цветов без того, чтобы не послать несколько веточек в кабинет Ваграма Петровича. Там всегда стояли цветы.
Ваграма Петровича в его отсутствие замещала врач Любовь Петровна Мельникова. Когда я думаю о детях, то очень хочу, чтобы среди их воспитателей всегда были вот такие. Тогда дети обязательно вырастут хорошими. Любовь Петровна вся светилась удивительной человеческой добротой, которая так нужна людям, когда им трудно живется. Она неизменно распространяла вокруг себя тепло и свет.
И, думая о больных, я тоже думаю, что возле них всегда должны быть такие, как Любовь Петровна. Недаром она была лечащим врачом и в послеоперационной палате — именно там, где шла самая острая борьба за жизнь и здоровье человека.
В отделении нас окружали сестры и няни, и мы были очень к ним привязаны, а со многими просто дружили. Мне даже трудно сейчас выделить в своей памяти кого-нибудь, кто был бы мне дороже других. Они все были нашей повседневной опорой в борьбе за жизнь, всегда готовые броситься нам на помощь в самую трудную минуту, неизменно приветливые, сердечные, ласковые и очень терпеливые к нам, больным. И все-таки, пожалуй, особенно полюбились мне сестра Татьяна Васильевна и няня тетя Тоня, может быть потому, что обе они выхаживали меня после операции. Татьяна Васильевна была молодая и очень красивая. Когда она дежурила, мне даже в самое тяжелое время было спокойно и без врача. У нее были золотые руки, чуткое сердце, — а что еще надо, чтобы утолить боль, облегчить страдание и заставить даже самых отчаявшихся уверовать в торжество жизни?
Ну а тетя Тоня была совсем старушка. В больнице она проработала тридцать лет. Маленькая, толстая, переваливается с боку на бок как утка, зато все в ее руках спорится. И никто, ну никто не умеет переложить больного так легко и удобно, как она! У нее даже были свои приспособления для костных больных. Ночь дежурит в послеоперационной палате и ни за что не передоверит больных сестре — сама подойдет, прислушается к дыханию, приложит руку к горячему лбу и — тяжко вздохнет. Мы были ее детьми, и она страдала душой за каждого из нас.
Старшей сестрой работала Зинаида Ивановна Богданова. Потеряв на фронте единственного сына, она стала матерью всем нам. В больнице лежали дети, приехавшие издалека, их подолгу не навещали родители. Но и они по воскресеньям неизменно получали гостинцы от «своих мам».
Позже я узнала, что все это покупала и передавала детям Зинаида Ивановна. Угощала она ребят и их любимым лакомством — гоголь-моголем. В больнице находилась она с утра и до позднего вечера, не зная ни праздников, ни выходных. Мы не понимали, когда она отдыхает.
10
Получила я наконец учебники и приступила к занятиям. А заниматься было трудно — не потому, что туго давались науки, нет, просто очень уж трудной была и обстановка, и состояние, в котором пришлось заниматься. В палате лежало много народу и было шумно. Я же в связи с прогрессирующей болезнью слуха плохо переносила шум. И главное, меня терзали сильные боли. Уже несколько месяцев я неподвижно лежала в гипсе, а боли не стихали. Особенно трудно бывало почему-то во второй половине дня, и тогда я совсем не могла заниматься. Но лечение еще только начиналось, а терпением я, кажется, запаслась сразу на целую жизнь.
Утром, как правило, сильных болей не было, и я спешила. Приближался первый экзамен, преподаватели согласились принимать экзамены в больнице. Первым я сдавала гражданское право. Волновалось все отделение — как-то сдам? Сдала на «отлично», да и за все последующие пять лет учебы не знала других оценок. Ведь я уже окончила один институт, и меня научили в нем главному — умению самостоятельно работать над книгой.
Вот тогда-то и вошла в мою жизнь еще одна большая радость. В школе, организованной для больных детей, не хватало преподавателя физики. Старший педагог Александра Ивановна Цибовская, узнав, что я инженер, попросила вести уроки. Я охотно согласилась. И началась новая жизнь, в которой дети заняли главное место.
Сама Александра Ивановна работала учительницей уже около сорока лет. Она преподавала русский язык и литературу, но из-за недостатка учителей вела и другие предметы. Кроме того, учила девочек вышивать (а как здорово вышивали и наши мальчики!), мальчиков — лепить, и тех и других — рисовать. В больнице и сейчас висит много картин, нарисованных больными детьми. В отделении создали для старших мальчиков фотолабораторию. Александра Ивановна организовала детскую художественную самодеятельность. В коридоре стояло пианино. Этот коридор был местом наших празднеств. В нем проходили детские утренники, устраивались новогодние елки, показывалось кино. Ходячие «большие мальчики» заходили и к нам в палату. Со многими из них я подружилась. Они же научили меня играть на мандолине.
Трагически оборвалась на двадцатом году жизнь Вани Зеленкова. Он болел той же болезнью, что и Николай Островский, ему уже ничем нельзя было помочь. Умирал он долго и трудно. Он был весь скован — руки, шея, челюсти. Потом ослеп. А потом сковало и ребра, и он перестал дышать. Помню, когда мне разрешили по десять минут ходить на костылях, я прошла мимо его постели. Он сказал с улыбкой, похожей на гримасу:
— Жалко мне вас, девчат. Мы хоть мужчины, сильные, а вы...
Этот девятнадцатилетний мужчина до самого конца жалел ие себя. Жалел других.
Преподавала я физику в шестом, седьмом и восьмом классах. К ребятам меня ввозили. Наше знакомство вскоре перешло в настоящую и прочную дружбу. Больница заменяла детям все — семью, улицу, школу. И, надо сказать, что персонал отделения справлялся со своими нелегкими задачами успешно: ребята жили полной, интересной жизнью, так что не чувствовали себя несчастными. Они получали все необходимое для того, чтобы не только выздороветь, но и вырасти полноценными людьми. «Директором» школы был сам Ваграм Петрович.
С преподаванием я справлялась легко, отношения с ребятами были самые товарищеские. Конечно, любили ребята и пошалить — никакая болезнь не может отнять у нас детство. Но я им охотно прощала шалости. Зато во всем, что касалось учебы, была требовательна и часто ругала себя за это. Просто я никогда не умела работать кое-как и не могла мириться с этим даже в детях. Моя уже выздоровевшая ученица Аля как-то написала из дому: «У вас я получала по физике тройки, а в школе у меня одни пятерки». Так до сих пор и не знаю, писала ли она это с благодарностью или с упреком. Скорее все-таки с упреком. Впрочем, так было не только с физикой, но и со всеми предметами, и у всех учителей. Да это и понятно: классы у нас были маленькие, и занимались мы, можно сказать, с каждым учеником отдельно. Самым любимым моим классом был тот, в котором я преподавала все три года — с шестого по восьмой. Старостой была Зоя, и я очень любила ее, люблю до сих пор. Красивая девочка, она отлично училась и пользовалась непререкаемым авторитетом даже у мальчишек. Была она вожаком и в классе и в палате. Умела зажечь всех — и самых неуживчивых, и самых пассивных. А ее ответы на уроках доставляли мне истинное наслаждение. Больше всего запомнилась мне Зоя в роли Снегурочки на нашей новогодней елке. Как хороша она была в своем белом наряде...
Уже выписавшись из больницы, я получила от нее письмо: «Вчера перед сном мы с девочками долго говорили в палате о вас. Мы хотим быть такими, как вы».
Вероятно, нет большего счастья в жизни учителя — получать такие письма.
Сейчас Зоя взрослая. Она работает сельской учительницей, пишет мне, делится и радостями и неудачами.
В том же классе учился Володя. Румяный, с блестящими смеющимися глазами, живой, неугомонный, был он удивительно жаден к жизни. Заводила во всех детских играх и пример для ребят, он учился легко, на лету схватывая все новое. И — был отличным товарищем. Выздоровев года через три после того, как и я выписалась из больницы, он однажды вошел в мою комнату с охапкой черемухи. И меня охватило такое чувство, будто сама жизнь ворвалась в мою комнату. Казалось, для него не существовало на свете ни тяжелого, нн грустного, ни плохого. Он был олицетворением не просто жизни, но всего лучшего, светлого, счастливого в ней.
Больше других Володя дружил с Сашей — полной его противоположностью. Тихий, задумчивый тугодум Саша приехал лечиться из деревни, у него было много младших сестер и братьев, и дома жилось очень нелегко. Должно быть, поэтому он так рано повзрослел и всегда выглядел угрюмым. Но надо было видеть, как преображался этот мальчик, когда попадал в палату к малышам. Он сразу становился нежным и ласковым. С малышами он мог просиживать часами, всегда что-то для них мастерил, сочинял, выдумывал. И разговаривал с ними, как с равными. Дети обожали его.
Операция прошла для Саши не очень удачно — он остался хромым и, может быть, поэтому уезжал домой грустный. Мне захотелось подарить ему что-нибудь на память. Мне самой как-то подарили маленькую белую коробочку с домино. И ребята всегда играли только в мое домино, не признавая никаких других, потому, вероятно, что костяшки эгого домино были очень маленькие и ими удобнее было играть в постели. А может быть, в этом проявлялась тяга к красивому — ведь домино было сделано изящно, под слоновую кость. Мне захотелось подарить его Саше, я понимала, что дома игрушек у него никогда не было. Потом передумала — неловко отбирать домино у остальных ребят — и подарила Саше книгу. Просила непременно писать мне и уже тогда знала, что писем от него не получу — он не умел выражать свои чувства словами, просто не привык...
А вот в Олеге было что-то нежное, почти девичье. Он был «ходячим» и после того, как мне сделали операцию, часто навещал меня. Разумеется, тайком и даже с риском получить нагоняй от Ваграма Петровича — в послеоперационную детям входить не разрешалось. Стоял у изголовья, смотрел на меня преданными глазами и, видимо, переживал, что не может облегчить моих страданий.
Училась у меня девочка Рита. Туберкулезом позвоночника она заболела в ранном детстве, была парализована, война застала ее в детском санатории в Евпатории. Туда пришли гитлеровцы. Прикованным к постели детям переводчик объявил: « Все ходячие покиньте палаты». И Рита поползла, так как хотела жить. Тех, кто остался, немцы расстреляли. Теперь Рита упорно лечилась, стойко перенося одну операцию за другой. И так же настойчиво училась, мечтая стать журналисткой. Выздоровела и поступила в университет.
11
Вспомнилось: первая для меня встреча Нового года в больнице. Нянечки натирают в палатах полы до блеска. Ребята разучивают новые песни. Мы шьем для них маскарадные костюмы, мастерим елочные игрушки. Учителя готовят детям подарки.
Утренник начался все в том же длинном добром нашем коридоре. По его концам горят огнями две огромные нарядные елки, под потолком трепещут сделанные ребятами из бумаги белые голуби. В полдень весь коридор заставлен белыми кроватями на колесах. После малышей выступали школьники. Потом Дед-Мороз и Снегурочка раздавали детям пакеты с гостинцами. Подарки дарили дорогие, каждому в отдельности — игру, куклу, конструктор. Дома не всем детям достаются к Новому году такие подарки. Дарили и общие подарки — всей палате. На этот раз палата «больших мальчиков» получила радиоприемник. В заключение утренника пели, все вместе, весь коридор.
Днем тридцать первого декабря приехали ко мне товарищи из депо, и так было все три года моего пребывания в больнице. В этот день каждый, конечно, спешил домой, и все-таки ко мне приезжали.
В двенадцать часов ночи, уже при свете ночника, мы лежали с радионаушниками и слушали тот, другой мир, заманчивый и недосягаемый — Большую землю, которая оставалась за дверями больницы. А в четверть первого вошел в палату Ваграм Петрович. Он часто бывал в больнице ночью, а уж поздравить с Новым годом заходил обязательно. От сознания, что он с нами, всем стало легче.
После Нового года написала я контрольные работы и снова ждала преподавателя, чтобы сдать очередной зачет и экзамен. Дядя Ваня, наш санитар, смастерил мне специальную доску, — на ней удобно писать и можно чертить лежа. Такие доски были почти у всех. Моя — цела до сих пор, я и сейчас на ней работаю.
Мы с ученической скамьи усваиваем, что труд создал человека. И не задумываемся над этим особенно. Для меня эти слова приобрели глубочайший смысл уже во время болезни, когда пришлось испытать на себе, как труд, именно труд, способен вернуть к жизни даже самых отчаявшихся. В самые тяжкие минуты, когда казалось — конец, жить нечем и незачем, меня спасала работа. Так бывало всегда и так будет дальше, я это знаю твердо.
По вечерам я вышивала, слушала радио, читала. В жизни и в книгах я люблю сильных людей и, как могу, учусь у них жить. С тех пор как заболела, Павка Корчагин, как верный товарищ, всегда рядом. Как часто бессонной ночью, измученная болью и безнадежностью, слышу я его неунывающий голос:
— Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай ее полезной.
...Двадцатого февраля, в день своего рожденья, я проснулась рано. Знала, что девочки в палате готовятся отметить мой праздник, такая уж у нас была заведена традиция.
Открыла глаза — прямо передо мной на стене висит «Зимний железнодорожный пейзаж». И как хорошо, что первым, что я увидела в этот день, был — поезд! И слова: «Вперед, Ирочка, только вперед!»
На тумбочке, как живая, стояла сирень, тоже Надиной работы, и тут же другие подарки. Их раскладывала обычно на тумбочке очередной «новорожденной» дежурная сестра. Это делалось под утро, прежде чем больных будили, чтобы ставить градусники. И уже белели на тумбочке первые поздравительные телеграммы, а потом, в течение дня, их набиралось у меня множество. Приходили врачи, сестры, учителя, а днем — родители, и после всех пришел Алик с томиком Маяковского с надписью: «Крепко люблю, всегда жду и очень верю в твое счастье».
Тогда, значит, он еще ждал... И верил...
Вечером, за ужином, девчонки трижды крикнули «ура!» и салютовали, хлопая бумажными пакетами.
Нет, в тот день мне не было грустно. Да я и сейчас люблю день своего рожденья, потому что в этот день со мной особенно много людей, и тогда кажется, что нет на земле беды...
Приближались школьные экзамены. Деповчане взяли шефство над моими ребятами и снабдили нас деталями, из которых я мечтала смастерить к экзаменам стенд с приборами — оборудовать нечто вроде физического кабинета. Думала, что со всем справлюсь сама, ну, позову на помощь одного только дядю Ваню. Тут и случилось непредвиденное (оно всегда случается непредвиденно): началось такое сильное обострение, что я, даже лежа, не могла работать руками. Пришлось отложить затею до осени. Каково же было мое удивление, когда меня ввезли в класс на экзамен по физике, и я увидела... стенд с приборами! Ребята приготовили мне сюрприз — все сделали сами. Они смотрели на меня счастливыми глазами, а я лежала и молчала и не умела выразить мою любовь к ним и благодарность за то, что одно только общение с ними дает мне и радость, и силы, и мужество. Ведь они сами были такие мужественные и никогда не жаловались ни на боль, ни на все лишения, эти мальчишки и девчонки, самой природой созданные для того, чтобы бегать, прыгать, резвиться. А они тут лежали, некоторые годами, заточенные в гипс, прикованные к постели. И — продолжали жить полной жизнью.
Экзамены ребята сдали отлично, несмотря на то что спрашивали мы строго, была целая комиссия учителей во главе с Ваграмом Петровичем.
А когда наступило лето, нас перевели на веранду. Больница находилась за городом, в чудесном заросшем парке. Веранда была построена в конце сада. Вблизи проходила железная дорога, так что теперь я могла не только слышать, но и видеть поезда. Многие машинисты нашего депо знали, что я лежу на этой веранде, и, проезжая мимо больницы, то один, то другой нет-нет да и сигналил гудками. И я понимала, что эти гудки — мои, это товарищи приветствуют меня.
Ах, как тут, в парке, ослепило нас щедрое летнее солнце, и сразу закружилась голова от свежего воздуха, от которого мы успели отвыкнуть. Особенно радовались дети, их приводило в восторг все — цветы, небо, букашки. Ко всему еще у нас на веранде «прописалась» собака — настоящая, живая, умная дворняга Жучка. Ваграм Петрович очень любил собак, и, конечно, появление Жучки было делом его рук. Жили у нас и кошки. Помню, однажды, уже осенью, что-то пушистое зашевелилось у меня в ногах. Я даже закричала спросонья, но тут же выяснилось, что это кошка, спасаясь от холода (нас держали на веранде до поздней осени), залезла ко мне под одеяло. Жучка была нам и сторожем — подпускала к веранде людей только в белых халатах, а кто подходил без халата — бросалась с лаем.
Объявились у нас на веранде шумные, беспокойные соседи-малыши, отделенные от нас только занавеской. И на «мостик» (так называлась открытая пристройка к веранде) нас вывозили тоже вместе с малышами. Малыши лежали, привязанные к постели, у них оставались свободными только руки, и вся их жизненная энергия проявлялась в крике и писке. Они будили нас в шесть утра своим щебетаньем, затем шум нарастал, и отдыхали мы от него только поздно вечером, когда малыши засыпали. Прямо скажем, лежать по соседству с ними было нелегко, а тем более — заниматься. Но зато это было и радостью нашей.
Озорнее других была пятилетняя Танюшка. Лукавые голубые глазенки сверкала на ее лице, как две звездочки. Она, казалось, только и думала, какую бы еще шалость выкинуть. С ней никто не знал сладу, ее и наказывали чаще других. Самым большим наказанием для малышей было, когда их вывозили из палаты и на время изолировали от остальных. Выдворяли в коридор, либо в нашу палату, или в мужскую, и это было наказанием за самые тяжелые проступки. Ну, а почему это считалось наказанием, не знаю. Мы так скучали по детям, что всякого, попавшего к нам, баловали, как могли: угощали фруктами, конфетами, забавляли сказками, потом ребята не хотели от нас уезжать. И все равно въезжали к нам с рёвом, — видимо «наказание» действовало чисто психологически.
Танюшка выбирала друзей под стать себе — самых отчаянных. А как-то раз выбрала новенького мальчика Славу, хилого, тщедушного, плаксивого. Он плакал часто и жалобно, с поводом и без повода, и Танюшка сразу взяла его под свое покровительство и опекала, пока они были вместе. Зато уж и проказничала она теперь за двоих!
Запомнился мне маленький Вовочка, тоже новичок, он долго не мог привыкнуть к детскому обществу. После карантина в боксе он две недели лежал в нашей палате. А потом, когда его перевели в детскую, три дня плакал и все повторял:
— Я люблю больших девочек! Я хочу к большим девочкам!
И ничто не могло его успокоить, пока Ваграм Петрович не распорядился поставить его кровать прямо в проходе между палатами, раздвинув занавеску. Так и лежал он в проходе, но с каждым днем его кровать все глубже вдвигали в детскую, чтобы он привыкал к ровесникам. А когда очутился полностью в их палате и занавеску задернули, он даже не заметил этого.
К малышам приходила руководительница, разучивала с ними песни, устраивала игры, ребята лепили и рисовали. Даже ритмике их учили — в такт музыке они, прикованные к постелькам, хлопали в ладоши и делали разные движения руками. Так, одними руками, научились они исполнять матросский танец «Яблочко», а мы, взрослые, смотрели на этот их «танец» и прятали от малышей мокрые глаза.
Конечно, лето принесло нам и солнце, и воздух, но... лежать в гипсе стало еще труднее. Было знойно, и мы лежали в поту, как в горячих ваннах. Раз в день нас освобождали от гипса — тех, кого можно было освободить — и обливали прямо на каталках холодной водой из шланга. А гипсовые кроватки сушили на солнце. Но облегчения хватало ненадолго.
Лета мы ждали с особым нетерпением еще и потому, что становилось больше посетительских дней: ведь зимой из-за частых карантинов — то грипп, то детские инфекционные болезни — воскресные посещения сплошь да рядом отменялись, и тогда совсем как бы прерывалась наша связь с Большой землей. Летом же карантинов почти не бывало, и по воскресеньям нас вывозили к посетителям на «мостик», создавая иллюзию свиданий наедине с близкими.
До обеда ко мне приходили родители, а после мертвого часа — Алик. Но бывать он стал реже и реже, свидания с ним стали короче и молчаливее, и приходил он с какими-то виноватыми глазами.
Осень засыпала сад желтыми листьями и принесла мне новое горе. Случилось то, чего я так страшилась: Алик перестал приходить... Теперь я одна продолжала верить в свое выздоровление и в свое счастье. Он устал верить и сдался. Надо было очень любить — так, как способны любить лишь сильные духом, чтобы принять меня со всей моей бедой. Его сил на это не хватило. И даже не в любви было дело. Если бы он разлюбил, я бы его поняла. Он не разлюбил. Просто испугался. Может быть, мне самой следовало быть активнее? Напоминать ему, как нужен мне друг, союзник в борьбе с недугом? А я молчала. Я оставалась такой пассивной, как никогда в жизни. Пусть решает сам. Только сам. К тому же я ведь любила его и боялась сделать несчастным. Вот он и решил... Ну что ж, не всем в жизни дано быть сильными...
...Он еще раз пришел ко мне. Пришел спустя десять лет после той осени. Все было у меня так же, та же боль, неподвижность. Только прошла молодость. Мы долго молчали Потом он сказал, что так и не был без меня счастлив. Но я ни о чем не стала спрашивать. Он был мне безразличен. Не осталось не только любви, даже уважения к нему. Тут уж я ничего не могла с собой поделать..
Но вернусь к той осени. Нас снова перевели в зимнее помещение. Я переживала горечь своей утраты одна, переживала тем труднее, что все это совпало с катастрофическим ослаблением слуха. Наваливались страшные головные боли, головокружения, в ушах стоял шум, от которого невозможно было спастись.
Четыре месяца я не могла ни читать, ни писать, ни даже слушать радио. В палате говорили шепотом, но я все равно ничего не слышала, кроме этого проклятого шума. От девочек я старалась скрывать свои переживания, им и без меня было трудно. Я лежала молча, задыхаясь от горя. И если не разуверилась я тогда во всем и во всех — и в любви и в людях, то помогла мне в этом чужая любовь. Стало страшно, что стану одним из тех скептиков, которых я так ненавидела: «Хорошие люди? Да где вы их видели, хороших людей! Друзья? Нет на свете настоящих друзей! Любовь? Не бывает любви, она только в книжках...»
Я испугалась и заставила себя оглянуться вокруг. А рядом со мной лежала такая же молодая и такая же больная женщина. У нее тоже была любовь, только любовь настоящая. Такая, которая делает человека невероятно сильным и помогает выдержать любые испытания. И когда Ваграм Петрович упоенно демонстрировал врачам ее рентгеновские снимки, приписывая весь успех лечения действию новых медикаментов, я улыбалась про себя. Я-то знала, какое лекарство делало эти чудеса. И я поняла: просто мне не повезло, а вообще-то любовь на свете бывает...
Пришла зима. Я лежала у самого окна, просыпалась рано и видела белый заснеженный сад.
И опять приближался Новый год, и опять я спрашивала себя, что же он мне принесет. Голова теперь не болела, к шуму в ушах я почти привыкла, и Ваграм Петрович разрешил мне вернуться к учебе и к преподаванию.
А в мою жизнь входили все новые и новые люди. Впрочем, почему новые? Прослышала о моем несчастье старая школьная учительница Лидия Макаровна и поспешила на помощь. Теперь уже ей было много лет. Потеряв на войне мужа и сына, она была бы совершенно одинока, если бы не ученики, маленькие и большие. Мужественная в своем горе, она щедро делилась мужеством и со мной. Ее душевные, мудрые письма были для меня одним из тех источников, откуда я черпала силы. А рядом со мной боролись с болезнью дети, мои ученики. И вот тогда-то, по инициативе Лидии Макаровны, завязалась переписка, а потом и крепкая дружба больных детей со здоровыми — ее учениками. Как много эта дружба значила для больных! А здоровые, помогая им, учились быть щедрыми.
Несмотря на все старания врачей, в нашем отделении погибал двенадцатилетний Игорек, мой ученик. Давно ли был здоровым, жизнерадостным, веселым, озорным, как все дети? А теперь лежал совершенно неподвижный, в нечеловеческих страданиях. Но никто никогда не слышал от него ни слова жалобы. Плакал он редко, тихо, и только по ночам. Он уже не учился со всеми, но по его просьбе его иногда привозили во время занятий в класс. Он слушал объяснения учителя, и нередко, когда другой ученик не мог решить задачу, раздавался слабый голосок Игорька — он решал в уме и подсказывал правильный ответ. У этого мальчика могли бы поучиться мужеству взрослые.
С Игорьком дружили две девочки из класса Лидии Макаровны. Они часто навещали его, делились событиями школьной жизни, приносили книги, а в праздник — конфеты. Пришли они к Игорю и в канун Нового года и подарили ему книгу Гайдара, его любимого писателя. Какой же радостью светились в тот день глаза мальчика! Это была последняя радость в его жизни. В двенадцать часов ночи няня принесла мне поздравление от него, написанное рукой соседа. Прочитала и поняла — это прощание. Через два дня Игоря не стало.
Шел к концу второй год моей неподвижности. Лучше не становилось, и было решено: летом — операция. Я ждала и верила так, что сильнее, кажется, и нельзя верить.
...С утра меня готовила к операции. Заботливые руки соседок причесали, заплели косички. Так уж у нас было принято — та, кому предстояла операция, переходила в этот день на попечение подруг. В палате напряженная тишина. «Ходячие» варят традиционный морс из ягод, его потом принесут в послеоперационную почти одновременно со мной. Последние приготовления. Укол морфия. Белая косынка на голову. Меня везут на каталке через весь сад, и я еще долго ощущаю на себе тревожные взгляды девчат. А в моей душе почти нет тревоги. Когда же в предоперационной подошел ко мне Ваграм Петрович и положил на плечо руку, стало совсем спокойно.
Оперировали меня под местной анестезией. У изголовья сидела Татьяна Васильевна, и это казалось счастьем. За пульсом следила Любовь Петровна, и то, что она была рядом, тоже казалось счастьем. Оперировавших я не видела. Помню лишь два самых острых чувства. Первое — боль, когда кончалось действие новокаина. Говорят, от сильной боли человек теряет сознание. Я испытывала обратное — сильная боль возвращала ко мне почти уходившее сознание. И второе чувство, почти такое же острое и такое же неотвязное, — я видела перед собой глаза мамы, полные страха и жалости. Видеть эти измученные глаза было настолько нестерпимо, что я вызывала в памяти другие образы, хотела увидеть лицо Миши в надежде, что он заслонит маму. Не помогало.
Во время операции я не позволяла себе стонать — ждала, что вот сейчас, сию минуту, свершится чудо, и меня избавят от беды. Впрочем, Татьяна Васильевна и сама чувствовала, когда боль становилась нестерпимой, и подсказывала хирургу: нужен еще укол новокаина.
Когда профессор вышел из операционной, я поняла: главное сделано. Зашивал рану Ваграм Петрович. А еще через несколько минут приоткрылась дверь, и показалась голова дяди Вани. Значит, он уже ждал с каталкой, чтобы отвезти меня в палату.
Как она тянулась, первая послеоперационная ночь... Около меня сидела санитарка, часто подходила сестра. А иногда, открывая глаза, я видела склонившуюся голову Ваграма Петровича. После таких операций он никогда не уходил домой, хотя в больнице и оставался дежурный хирург. Помню, мучила жажда — было жарко, стояла душная июльская ночь. Я попросила пить, и Ваграм Петрович дал ложку воды, велел прополоскать рот и выплюнуть. Я взяла в рот эту каплю живительной влаги, и не хватило у меня силы воли выплюнуть. Лежала на животе, лицом вниз, хотела попросить разрешения проглотить, открыла рот и — вода вылилась. От обиды я даже заплакала, и Ваграм Петрович дал мне попить.
Потом, когда боль наконец стихла, мне показалось: вот счастье! Разве могла я знать, что боль отступила только на время и что операция лишь усугубит тяжесть моего положения...
Еще целый год меня лечили, и, как мне казалось, — всем подряд. Кончали применять одно средство и тут же, без передышки, назначали другое. Врачи старались поднять меня на ноги, поднять любой ценой, и я верила им.
И вот после трех лет полной неподвижности пришел, наконец, день, когда должно было свершиться чудо. Увы! Не помог ни наш традиционный коврик — он всякий раз расстилался возле постели того, кто впервые вставал, ни любимая моя «Лунная соната» — по случайному совпадению именно ее в те минуты передавали по радио.
Выписалась я домой с тем же, с чем и пришла в больницу: с трудом поднималась на ноги на пять-десять минут. А три года были вычеркнуты из жизни. Три года такой борьбы... На душе было очень тяжело. Ведь так обидно уходила молодость. И все-таки я тогда еще не представляла себе, что так может пройти вся моя жизнь. На что-то я еще надеялась...
Ребята готовили к майским праздникам постановку, и я очень жалела, что не увижу их выступлений. В день выписки Александра Ивановна пригласила меня с утра посмотреть репетицию. Меня ввезли на каталке в палату школьников, и по их взволнованным лицам я поняла: готовится не обычная репетиция! Ну, конечно же, это было торжественное прощание со мной. Я слушала трогательные речи и глотала слезы. Очень трудно было мне с ними расставаться. Я знала, что со многими больше не встречусь...
В четыре часа я простилась со всеми. Последний, кого я увидела возле больницы, был Ваграм Петрович. Он долго махал мне рукой.
Читать повесть "Жить стоит" далее (часть 3).
4594 |

|
Ирина Триус |
 Версия для печати Версия для печати |
| Смотрите также по этой теме: |
Пять вдохновляющих причин остаться в живых (Вопросы истинные и ложные) (Оксана Задорожная, психолог )
Жить стоит. Повесть. Часть 3 (Ирина Триус)
Жить стоит. Повесть. Часть 4 (Ирина Триус)
Жить стоит. Повесть. Часть 5 (Ирина Триус)


 Ольга
Ольга
 Психолог Александр Колмановский
Психолог Александр Колмановский
 Михаил Хасьминский, кризисный психолог, член Научно-консультационного совета Московского Межрегионального управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, член Общественного совета федеральной службы исполнения наказаний Минюста РФ, П
Михаил Хасьминский, кризисный психолог, член Научно-консультационного совета Московского Межрегионального управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, член Общественного совета федеральной службы исполнения наказаний Минюста РФ, П
 Александр Колмановский, психолог
Александр Колмановский, психолог
 Дмитрий Семеник, психолог
Дмитрий Семеник, психолог
 Дмитрий Семеник, психолог
Дмитрий Семеник, психолог