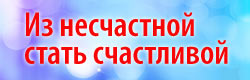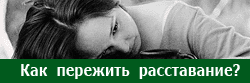Жить стоит. Повесть. Часть 3
12
Москва показалась почти чужой, так я отвыкла от нее за эти три года. Обрадовалась первому постовому милиционеру. Поразилась высотным зданиям, выросшим за это время. И чем ближе подъезжала к дому, тем все становилось родное. Проехала школу — будто проехала свое детство. А вот и наш дом. Мне казалось, каждый кирпич радуется моему возвращению, из каждого окна улыбаются люди.
Я снова в кругу большой дружной семьи. Столько потерь принесла война, а семья стала даже еще больше. Сразу после войны приехал к нам жить и учиться мамин брат. Лишившись семьи и дома, потянулся он к нашему очагу. И — сам внес в этот очаг тепло своего сердца.
Мой младший братишка Женя, так долго остававшийся для меня маленьким, стал взрослым мужчиной. Окончил в мое отсутствие университет. И даже успел жениться — у меня появилась сестра. Войдя в семью, Авина делила многие наши трудности. Не раз приходила она мне на помощь — делом и словом. И хотя она много моложе меня, слово ее способно поддержать и успокоить, вселить веру в минуту отчаяния. То ли этому научило ее трудное детство и юность, то ли — профессия врача...
С дальнего Севера приехал в Москву учиться мой сем- надцатилетний двоюродный брат Марк. Я сдружилась с ним быстро и накрепко. Сколько жизненных его проблем решали мы вместе, сколько томительных вечеров моей болезни скоротали вдвоем. Добрые его письма согревали меня в больницах. Он умел заставить улыбнуться даже в самые тяжелые минуты. «Не горюй, сестренка, ведь и хорошее тоже в жизни иногда случается », — писал он в больницу. Ко мне всегда было обращено все самое светлое, все лучшее в нем...
Я вернулась домой и не могла нарадоваться всему, что меня здесь окружает. Но радость была какой-то лихорадочной — я понимала, что пребывание дома не будет длительным. Долгое время я просыпалась по утрам с мыслью: а как там у нас, в больнице? Так просыпалась я в больнице: а как там у нас, в депо? Впрочем, я и сейчас, когда просыпаюсь и узнаю, что за окном сильный мороз, ловлю себя на мысли — а как они там, на линии? Хотя хорошо знаю, что техника ушла далеко вперед и никаких морозов не боятся электрические поезда.
Я получала письма от моих подруг по палате и, конечно же, от моих учеников. Писали мне и младшие школьники, обращаясь с такими словами, что у меня перехватывало дыхание: «Дорогая наша раскрасавица Ирочка!» Так успокаивала, бывало, наша больничная няня, тетя Тоня, плачущую девчушку:
— Ах ты, моя раскрасавица, да кто же тебя обидел?
На лето родители увезли меня на дачу, а осенью опять предстояло ложиться в больницу. Так проходили и все последующие годы: летом — набираться сил и терпенья, чтобы осенью вступить в новую схватку с болезнью. А весной врачи снова констатируют: «Не помогло». И так — год за годом, год за годом, двадцатый год!
Каждая новая больница, каждый новый врач обнадеживают новыми исследованиями, новыми методами лечения. И всюду со мной были люди! Некоторых я старалась сберечь в своем сердце на будущее. Кто-то помогал мне. Наверное, кому-то помогала и я. Такова жизнь, в этом ее смысл, ее счастье.
Скольких разочарований стоила моя болезнь врачу Института курортологии Линде Самойловне Мяги. Она лечила меня год за годом, долго, упорно, терпеливо, добиваясь порой таких результатов, какие не удавались никому другому. К больным Линда Самойловна входила всегда нарядная, будто на праздник. Наверное, понимала, как утомляют наши глаза и души безрадостные больничные краски. Такая она и живет в моей памяти — яркая, с синими лучистыми глазами и копной золотистых волос; вся такая весенняя, что при ее появлении все в палате словно озарялось солнцем.
13
Между тем жизнь шла своим чередом. Как-то вместе с группой товарищей из депо приехал ко мне секретарь райкома партии, человек средних лет, невысокий, полный, одет просто, да и весь какой-то очень простой. Я поразилась тому, как в разговоре меняются его глаза. Поначалу я даже отнесла это на счет очков — подумала, что в стеклах отражается игра солнечного света. Нет! Всмотрелась и убедилась, что меняется выражение самих глаз. Они то становятся сосредоточенно серьезными, то мечтательными, то появляется в них такая веселая искорка, что и мне хочется смеяться.
В жизни каждого человека происходят разные события. Одни переживаешь наедине с собой, со своей совестью, а бывает... Помню, как высыпали на улицу миллионы москвичей в День Победы, девятого мая сорок пятого года. Вот так же, все вместе, радовались и полету Гагарина в космос. Такие события нельзя было переживать в одиночку. Их надо было переживать с людьми, с народом, в самой гуще его — на собраниях, митингах, и цехах. А ведь я была оторвана болезнью от всего этого...
И когда секретарь райкома заговорил со мной об этом, я словно оказалась в красном уголке депо, где обычно проходили наши партийные собрания. Мне даже на мгновенье захотелось закрыть глаза, чтобы отчетливее увидеть депо. А потом он заговорил обо мне, о моей судьбе, и я удивилась тому, как много он обо мне знает. Он сказал мне слова, которые не просто согревают человека, но и делают его сильным.
Я и вправду стала сильнее. Я лучше стала видеть мир, отгороженный от меня четырьмя стенами.
Я видела, как жизнь вокруг становится лучше, чище, светлее, и не могла оставаться безучастной. Все острее чувствовала я потребность трудиться по-настоящему. И ничто не хотелось откладывать на «после болезни». Хотелось жить сегодня, сейчас, а жить означало прежде всего работать. Конечно, понемногу я все-таки работала — вязала, вышивала в артели инвалидов, давала уроки математики отстающим ученикам. Но я стремилась к труду творческому, в полную силу, к работе по прямой специальности. Ведь для чего-то я окончила инженерный факультет, а теперь заканчивала и экономический — оставалось лишь защитить диплом и начать работать.
Найти работу по душе помогли мне старые институтские товарищи Лева Гуткин, Валя Иванова и Нина Ширяева — с Ниной я и теперь вместе работаю. Она изумляла меня еще в институте. Удивительна многогранность не только ее интересов, но и дарований! Она училась живописи и, наверное, пошла бы по стопам отца — художника, если бы не пленил ее мир музыки. Она и краски воспринимает в звуках. И стихи ее отличаются прежде всего мелодичностью. Да она, кажется, и весь мир воспринимает в звуках. Так и живет с душой музыканта. Если бы я не знала, какой это толковый, знающий инженер, так бы и думала, что в технику она попала по какой-то нелепой случайности. Всякий раз, когда Нина собирается меня навестить, я гадаю про себя, какой стороной своего дарования она обернется ко мне сегодня, какая часть ее души приоткроется.
Лева успел за эти годы окончить аспирантуру, защитил диссертацию и работал теперь старшим научным сотрудником. Впрочем, менялось только его служебное положение, а сам Лева оставался все таким же — отзывчивый, верный, надежный товарищ. Пожалуй, из всех моих друзей он сыграл в моей жизни самую большую роль: помог сделать так, чтобы ко мне вернулась радость труда, а значит и радость жизни.
Именно Лева настойчиво советовал мне взяться за изучение иностранных языков. И я взялась. Немецкий достаточно было только вспомнить, я и раньше знала его хорошо. Зато английский пришлось изучать с азов. Как раз тогда по телевидению давали уроки английского языка. Лева же готов был дать нужную консультацию. Он и анкету мне принес для поступления в Институт информации. Речь шла о работе по договору, внештатным референтом. Вскоре мне прислали первую большую статью по технико-экономическим вопросам на немецком языке. Вот когда пригодилось знание и техники и экономики. Но все равно, получив первую работу, я растерялась: а вдруг не справлюсь? Сдала работу, а дальше — пошло. Однако еще долго Лева оставался моим неизменным консультантом и советчиком.
За одной удачей пришла другая — Линда Самойловна решила испробовать на моем недуге новый препарат — кортизон.
И я начала ходить!
Ходила твердо, даже без палки и почти без болей по целому часу! Ну, а если пересилить боль, то и все два. Затем отлеживалась, а через два часа опять могла встать.
Значит, я буду здорова!
Буду!
С какой энергией взялась я за работу — писала рефераты, занималась немецким и английским, «вгрызалась» в электронику. А главное, я как-то стряхнула с себя прошлое и снова поверила, что впереди — свет, только свет. Повторный курс кортизона окончательно вернет мне здоровье, и тогда... Я ночами заснуть не могла — задыхалась, теперь уже от счастья.
И вдруг — несчастье: вернулись боли, и снова я прикована к постели. Чего только ни делала Линда Самойловна, чтобы снять обострение! Я выписалась домой, поседевшая от отчаяния.
Было худо как никогда в жизни. Не знаю, как выжила бы, если бы отца не было рядом: утром, днем, вечерами он не отходил от меня. Мама сама лежала больная. Нужно было взять себя в руки, хотя бы ради них. И с неистовством, на какое способно, вероятно, лишь отчаяние, — потому что сил было мало, — я набросилась на работу. И снова лечила меня работа — самый надежный врачеватель! Занималась английским шесть часов в день, а через два месяца уже сдала первый перевод английской статьи.
Валя Иванова рассказала обо мне в Министерстве путей сообщения, и вскоре ко мне домой пришел замечательный человек, определивший всю мою дальнейшую жизнь. Это была руководительница отдела технической информации Софья Станиславовна Долецкая, старая большевичка. Невысокого роста, очень подвижная, коротко остриженная, черты лица строгие, низкий резковатый голос — и за всем этим такое открытое, доброе сердце!
Впервые в жизни я близко столкнулась с одним из тех людей, кто жил и работал в партии при Ленине.
Девятнадцати лет вступила Софья Станиславовна в большевистскую партию. Работала в подполье, воевала на фронтах гражданской войны, многие годы служила в разведке, выполняя ответственные задания. Она была человеком высокой культуры и широкого жизненного кругозора. Свободно владела английским, немецким, польским, французским, итальянским, чешским. Была прямым, открытым, справедливым человеком, бескомпромиссным коммунистом, всегда готовым помочь, поддержать, поделиться всем, что имеет. Видно, жил в ней врожденный педагог — было у нее глубокое чутье к людям, она умела распознать в человеке призвание, направить на верный путь.
Долецкая, как только мы поздоровались, сразу, без обиняков, сказала, что заинтересовалась всем услышанным обо мне и поэтому взяла и приехала прямо ко мне домой. Меня она поддержала по-человечески, по-большевистски и даже как-то по-мужски. Да не просто поддержала — подняла в жизни, благодаря ей я стала не только сильнее, но и выше.
Беседуя со мной, она проверяла, что я знаю и что умею, а потом сказала, что люди с таким сочетанием знаний техники, экономики и иностранных языков нужны отделу. И — велела написать заявление! Сначала приняли меня на работу с двухмесячным испытательным сроком, а когда срок кончился, снова приехала Долецкая и опять напрямик, без обиняков, сказала, что моя работа получила высокую оценку и меня приглашают стать постоянным работником. И, значит,— снова стоило жить!..
Прошел еще год. Год напряженного труда. Ведь я так истосковалась по настоящему делу. А болезнь все обострялась... Теперь силы уходили еще и на работу... Когда стало совсем плохо, Линда Самойловна выхлопотала направление в Ленинградскую клинику. Может быть, ленинградские врачи решатся на новое хирургическое вмешательство? Удерживала только работа. Но статьи для рефератов Лева обещал пересылать в Ленинград почтой, а Долецкая заверила, что место в отделе остается за мной, и не просто остается, а «вот вам учебник чешского языка (в отделе нет ни одного специалиста, знающего чешский), и не теряйте времени...»
Позднее, вслед за чешским, уже по собственной инициативе изучала я и болгарский, и польский.
В Ленинград привезла меня мама — самый верный мой спутник. И хотя встретили нас там не белые летние ночи, а слякотная пронизывающая осень, город был очень красив.
В консультациях, как и положено, участвовали врачи разных специальностей. Операция была отвергнута. Можно, конечно, попробовать курс лечения. Но...
Этого «но» я постаралась не расслышать.
Меня положили в клинику. Стали лечить рентгеном. Клиника была перегружена, и я лежала в коридоре, длинном, узком, сплошь заставленном койками. Главное же неудобство — в нем было темно, а мне надо было работать. Я реферировала иностранные журналы для экспресс-информации. Занималась чешским. Работала, пока хоть что-то могла видеть, а потом от напряжения болели глаза. Мама вернулась в Москву. Я осталась одна. Трудно болеть в чужом городе, вдали от родных. Я почти перестала спать.
Как-то прошла мимо меня заведующая отделением и спросила, почему я читаю и пишу в темноте. Я ответила, что не нахожусь в столь тяжелом состоянии, чтобы все время дремать. И добавила в сердцах:
— Если бы я продремала все те годы, что лежу, то давно уже превратилась бы в животное.
На следующий день меня перевели в светлую просторную палату, где лежало еще пятнадцать человек. А главное — меня положили у самого окна, и я могла заниматься сколько угодно. Дни побежали быстрее, я лечилась и занималась.
Когда-то моя тетя, врач, сказала мне:
— Я рада, что ты не стала врачом. Если бы ты знала, как трудно всегда быть там, где страдания.
Я не стала врачом, но жизнь моя все равно протекает среди больных. И не раз, видя чужие страдания, я задаю себе вопрос: почему не выбрала профессию врача, самую гуманную из всех профессий? Тем более, работая во время войны в госпитале, я уже по сути была знакома с этим делом и полюбила его. Но госпиталь был связан с войной. Я видела раненых, но не знала болезней. Я ждала окончания войны, и так уж сложилось в моем сознании, что в мирной жизни не будет человеческих страданий. Разве могла я знать, что моя самая трудная борьба будет проходить как раз в самое мирное время...
Конечно, я и здесь, в Ленинграде, встретила замечательных людей, и прежде всего «нашего» профессора. Ему было уже много лет, а за его обычной ворчливостью скрывалась боль за всех нас, болящих. Просто есть врачи, которые не умеют привыкнуть к чужой боли, как есть люди, для которых не бывает чужой беды...
Мои занятия чешским продвигались успешно, но лечение не давало результатов.
Накануне отъезда снова состоялась консультация. Врачи долго рассматривали рентгеновские снимки, что-то обсуждали, потом профессор убрал снимки и обратился ко мне:
— Теперь спрашивайте вы, а я буду отвечать.
У меня был один-единственный вопрос:
— Возможно ли выздоровление?
Он посмотрел мне в глаза.
— Вы крепкая, вам можно говорить правду: вылечить мы не можем. Вашу болезнь можно только облегчать.
Больше вопросов у меня не было. Все стало до жути ясно. Неясно было только, чем они могут облегчать мои страдания. Ведь уже были испробованы все средства. И всякий раз, когда лечение оказывалось безрезультатным, меня поддерживала надежда, что средство это не последнее, что есть еще какие-то неподобранные ключики к моему недугу. И, в крайнем случае, остается возможность повторной операции, я в это очень верила, несмотря на то что первая оказалась столь неудачной. А теперь врачи отклонили и эту возможность. Впереди не оставалось ничего. Ждать чуда? О чуде можно мечтать, но как в него верить?
Меня заковали наглухо в гипс и отправили в Москву. Под стук колес я спрашивала себя: как дальше жить?
И опять спасла работа! Меня ждали. Надо было срочно перевести с чешского материалы о бесстыковом пути. Работала с волнением. Вскоре получила отзыв редактора. Он написал, что как с точки зрения перевода, так и со стороны общетехнической работа выполнена безупречно. По сути, я прошла второй испытательный срок.
И снова приехала Долецкая. Словно почувствовала, что я готова отступить, — я испугалась той потери сил, в какую обошлись мне ленинградские переживания.
Долецкая сказала просто и прямо:
— Миленькая моя, вы не в лесу работаете, а среди людей, в коллективе.
Слово «коллектив» подействовало на меня магически. Я почувствовала в себе силу. По-видимому, я от природы выносливая, мне не раз говорили об этом врачи.
Итак, меня зачислили на постоянную работу. Передо мной снова была открыта «зеленая улица». Я оставалась на транспорте и даже дело продолжала то самое, какое начинала в депо, только теперь берега расширились. Тогда я занималась тем новым, что давала творческая мысль наших рабочих в цехах, теперь же я выискивала в иностранной литературе то, что создавалось в области транспорта учеными всего мира. Для этого мне и потребовалось знание иностранных языков.
Работала помногу, иногда часов по десяти в день. В отделе, конечно, не знали, что мне приходится так много работать. Не знали этого и врачи, а то бы наверняка запретили. Зато все знали, все видели мои родители. Конечно, они тревожились за мое здоровье. Но отец понимал и объяснял маме, что это для меня единственный путь снова обрести смысл жизни. И — помогал чем мог. А ведь были такие минуты, когда казалось — больше не могу, не выдержать, не под силу. Хотелось все бросить, уступить усталости, боли. Вот тогда-то на защиту моего счастья вставал отец, а с ним и мать. Оба они в жизни борцы и не могли допустить, чтобы по-другому жили их дети. Ну, а что на долю мою выпала, кажется, слишком уж трудная и долгая борьба, так ведь они же и делили ее со мной.
Весной случилось несчастье — скончалась Долецкая. Мне так мало пришлось знать эту чудесную женщину, и так много она мне оставила в наследство! Наверное, когда умирают щедрые люди, они продолжают делать добро и после своей смерти.
Нередко мне приходилось сталкиваться со смежными областями техники, и тут требовалась консультация специалистов. С такими специалистами связывала меня по телефону Валя Иванова, сотрудник научно-исследовательского института. Вскоре у меня появилось такое ощущение, словно за спиной Вали, а значит и за моей спиной, стоит целый институт. Поэтому и работать было спокойно.
Летом на даче тяжело заболел отец. Мама металась от одной кровати к другой — мне тогда тоже было очень худо, и я чувствовала себя такой беспомощной, как никогда в жизни. В одни из самых трудных дней, когда состояние отца стало угрожающим, в мою жизнь прочно вошли новые товарищи — сотрудники нашего отдела. Они привозили врачей, доставали лекарства, доставляли по очереди продукты. И сразу я перестала чувствовать себя беспомощной — все в доме шло так, как если бы я была на ногах и сама боролась за жизнь отца.
Пожалуй, именно тогда и состоялось настоящее мое знакомство с коллективом...
Сейчас мне кажется, что с Аллой Полищук я знакома целую жизнь. Слушая ее, я иногда ловлю себя на том, что не столько вдумываюсь в смысл произносимых слов, сколько наслаждаюсь прозрачной красотой ее речи. И кажется мне, что вслушиваюсь не только в слова, но в дыхание ее души. Она становится для меня как бы частью меня самой, так что порой я уже и сама не знаю, откуда черпаю силы — из ее души или из своей собственной. Мне доводилось слышать, что для того, чтобы понять чужую беду, надо самому побывать в беде. И никогда не соглашалась с этим. У пословицы «Сытый голодного не разумеет» совсем другой смысл — классовый. Просто есть люди, которые умеют принимать чужую беду, как свою. Именно таким душевным талантом обладает Алла. Ведь даже понять чужую беду, наверное, еще не все. Гораздо труднее ее разделить. И не один раз и не иногда — на добрые порывы способны многие. А вот так, как она, по своей душевной потребности войти в жизнь и в беду друга навсегда. И всякий раз, когда другу трудно, выложить свои силы и душу, чтобы ему помочь. Алла вошла в мою жизнь светлым, очень нужным человеком.
Связи мои с людьми все время ширились. Появлялись новые товарищи по работе. Друзья приводили в мой дом своих друзей.
Бывает, что дружба рождается, как и любовь, с первого взгляда. Пожалуй, именно так получилось у меня с Аллой в тот день, когда она впервые пришла ко мне во время болезни отца и разделила со мной ту тяжесть, которую мне уже не под силу было нести (сколько же потом было еще таких дней!..). Чаще же дружба выковывается постепенно — в общей работе, учебе, жизни. В преодолении трудностей.
С Лялей Ночевкиной все было иначе. Сейчас уже вроде бы и не вспомнить, когда именно Ляля перестала быть для меня просто знакомой и стала другом. И все-таки такой рубеж был. Ляля — жена друга моего брата. И, бывая в гостях у брата, она всегда заходила навестить и меня. Однажды зашла, когда мне было очень плохо. И вскоре пришла снова, теперь уже не к брату — ко мне. И по тому, с каким облегчением вздохнула, увидев, что мне стало лучше, почувствовала я, как глубоко не безразлична ей моя судьба.
По долгу человек способен сделать для другого все, что он может. Когда же чувство долга совмещается, как в Ляле, с умением страдать за того, кто страдает, человек делает больше того, что может.
Помощь другому, — если только она настоящая, — всегда бывает в ущерб себе. И всегда нужна она, эта помощь, кому-то не вовремя — когда у тебя свои, самые неотложные, дела. Ляля обладает редким даром — умением забыть себя, если это нужно другому. Помню, как в очень тяжелые для меня дни — снова болел отец, и мама снова была около него — я не справилась со своей усталостью. Нужно было вывести меня из этого состояния, увезти из Москвы, дать отдых, разрядку. Ляля бросила все свои дела, оставила ребенка на мужа и, не раздумывая, отдала мне свой отпуск. Другие приносили в больницу цветы — Ляля таскала бутылки необходимого мне боржома, который почему-то в то время трудно было достать. Она готова была обегать все аптеки Москвы, чтобы раздобыть самое дефицитное лекарство. И сама же потом посмеивалась над собой: «Бешеной собаке семь верст не круг...» Не всякую помощь легко принять, Лялину — легко. С ней вообще легко. Впрочем, это, наверное, не совсем так. Она бывает и непримиримой, и нетерпимой, и насмешливой, особенно если уловит в чем-то фальшь, мещанство...
Ну, а Майя Розовская вошла в мою жизнь вместе с молодежью лаборатории связи. Ребята-связисты Володя Ромбро и Валя Брук сконструировали для меня телефонный аппарат с усилителем, когда болезнь слуха уже почти порвали чуть ли не главную нить, связывающую меня с внешним миром, — я не могла больше пользоваться обычным телефоном. Замечательный аппарат подарили мне ребята! И сами стали моими товарищами. Даже в больницах, в которых мне приходилось лежать, не раз прикладывали они свои умелые руки то к электрической аппаратуре, то к устройствам сигнализации.
К Майе меня привлекла неизменная ее доброжелательность к людям, теплота сердца, неумение жить для себя. И — открытость, какая-то незащищенность души. Таких, наверное, даже черствому человеку трудно обидеть. Майю любят люди. Полюбила ее и я.
Ни Аллы, ни Ляли, ни Майи не было рядом со мной в период самой острой борьбы: второе дыхание пришло без них — я узнала всех трех позже. Но ведь неизлечимую болезнь нельзя победить единожды — ее нужно побеждать каждый день. Победить сегодня, чтобы начать новое сражение завтра. Борьба будет продолжаться столько, сколько будет длиться жизнь. И каждая новая атака болезни будет ставить под угрозу все завоеванное. Снова и снова окажешься на грани отчаяния, еще не один раз почувствуешь себя на краю пропасти. И даже не всегда будет в тебе желание удержаться. Вот почему так важно, чтобы всегда были союзники, чтобы рядом был друг.
14
Между тем болезнь продолжала подтачивать меня, выматывая все новыми обострениями. Мне грозила полная потеря трудоспособности. Я понимала, что тогда мне нечем и незачем станет жить... И опять положили меня в больницу. На этот раз в терапевтическое отделение железнодорожной больницы, где Ваграм Петрович работал теперь уже главным врачом. Случайно попала я в одну из самых тяжелых палат. Ваграм Петрович теперь уже не был моим лечащим врачом. Но я, конечно, знала, что все мое лечение идет под его непосредственным руководством и наблюдением. Всякий раз, проходя по коридору, он заглядывал в дверь палаты, я встречала его испытующий и ободряющий взгляд: все будет хорошо!..
Рядом со мной умирала совсем еще молодая женщина — Анна. В палате все звали ее Нюркой, потому что так называл ее муж. Ему она оставляла годовалого ребенка. До последней минуты Нюрка не знала, что умирает. Дом ее был в Можайске, там она вместе с мужем работала на заводе: он — слесарем, она — токарем. Она была очень хороша собой, болезнь почти не изменила ее внешности. Только кожа лица стала очень бледной и глаза горели, как звезды. Когда меня положили в палату, Нюрка еще ходила, чувствовала себя бодро и даже ухаживала за мной. Она была очень отзывчивой и к тому же сильно привязалась ко мне — сама не знаю почему.
Теперь она угасала на наших глазах, и мы понимали, что врачи бессильны продлить ее жизнь. Муж приезжал к ней часто, хотя чувствовалось, как трудно было метаться между нею, лежавшей в Москве, работой в Можайске и ребенком, которого взяли в ясли. Он привозил ей бутыли морковного сока и черную икру. Кто знает, чего это ему стоило... Приезжал он всегда в одно время, и мы с нетерпением, вся палата, ждали его. Он входил, и мы потихоньку облегченно вздыхали, а потом отворачивались — не хотели мешать их свиданиям. Какие это были свидания!.. Это были поединки жизни и смерти. Казалось, две жизни — здоровая и почти угасшая — слипались воедино. И пока они были вместе, эта, вторая, продолжала теплиться.
Я давно уже знаю, что человек, которому веришь, как самой себе, может оставить женщину в беде. Но даже если бы я пережила это не один, а сто раз, все равно я не перестала бы верить в любовь и никогда не забуду любви этого простого рабочего парня из Можайска к своей Нюрке.
Но даже такой любви было мало, чтобы свершиться чуду. Когда врачам стало ясно, что близок конец, они оставили мужа в больнице. Он привез из деревни маленькую сухонькую старушку. Нюрка была ее единственной дочерью, единственной отрадой...
Когда Нюрке стало совсем плохо, ее увезли из палаты в кабинет врача, чтобы не тревожить остальных больных. Нюру провозили мимо моей кровати, и я в последний раз увидела ее и тогда еще ясные, как звезды, глаза. Она спросила:
— Ира, почему меня увозят, может быть я умираю?
Я ответила ей очень спокойно:
— Что ты болтаешь, Нюрка, тебе сейчас сделают переливание крови, станет легче, а чтобы мы не мешали заснуть, тебя увозят от нас.
Ночью она умерла.
А утром я увидела Нюрину мать. Она сидела с каменным лицом, неподвижно уставившись выцветшими сухими глазами в одну точку. И мне стало стыдно, что я вот осталась жить, что пройдут еще сутки и моя мать обнимет меня, живую, и отвезет домой, а не на кладбище...
Дома я оставалась недолго и снова очутилась в клинике у Линды Самойловны. Обстановка была здесь скорее санаторная, чем больничная, и это имело свои особенности — и плохую и хорошую. Плохую — потому что кругом были почти здоровые люди, они больше отдыхали, чем лечились, и среди них было трудно болеть. Да и была ли я среди них? Чаще всего я лежала в палате одна. Ну, а хорошую — потому что я почти не видела здесь человеческого горя.
Лечила меня Линда Самойловна. Все было здесь близко, знакомо, ведь я лежала в этой клинике пятый раз и очень привязалась к людям, которые за мной ухаживали и лечили. Они были так добры ко мне — и врачи, и сестры, и няни. Иногда по вечерам, проводив ходячих больных в кино, няня кипятила чай и приходила ко мне коротать эти тихие долгие часы. Больше всех любила чаевничать со мной пожилая няня Матрена Гавриловна. Она понимала вкус в чае, заваривала его крепко и приучила к нему меня. Она была славной рассказчицей, и я с удовольствием слушала ее даже тогда, когда слышать мне стало совсем трудно и приходилось пользоваться слуховым аппаратом. Меня она шутя ласково называла: «наша кадровая больная».
Помню, Матрена Гавриловна наставляла меня:
— Лечись, Ира, пока молодая, а состаришься — кому будешь нужна? Все равно: хуже, чем есть, не будет.
«Хуже, чем есть, не будет», — повторила я про себя. И — обратилась с последней надеждой к президенту Академии медицинских наук. Я писала ему, что не могу и не хочу верить, в то, что меня нельзя поднять. Я понимала, что тяжесть моего положения объясняется сложностью заболевания. Но ведь сложность еще не означает невозможности выздоровления. И я попросила его найти какие-то другие формы, — может быть, коллективного вмешательства больших специалистов, чтобы помочь мне. Я верила, что он откликнется.
Он и откликнулся. Вопрос, как я и просила, решался сообща. Но... единодушного решения так и не последовало: может быть, пойти еще на одно хирургическое вмешательство?
За операцию взялся профессор, которому я без колебаний доверила жизнь тогда и доверила бы ее снова. Он сказал, что шансов на успех немного и все-таки какие- то шансы, по его мнению, были. Он решился на операцию, в которой риск сводился к минимуму. Я же не боялась никакого риска.
Наступившее лето было для меня решающим — надо было набраться сил и терпенья для предстоящей операции. К сожалению, мне удалось набраться только терпения — его поддерживала надежда. Силы же продолжала наматывать непрекращающаяся боль. Теперь днем я принимала болеутоляющие лекарства, чтобы можно было хоть как-то работать, а на ночь — снотворное, чтобы можно было хоть как-то спать.
Оперировать должен был один из тех больших врачей, которые не умеют пренебречь ни единым, самым малым шансом, если могут помочь человеку. Конечно, ему легче всего было отказаться от операции с самого начала. Он выбрал другой путь. Наверное, понимал — нельзя жить с сознанием, что испробовано не все до конца.
Этот же профессор заведовал отделением. Ни один больной, казалось, ни на минуту не выходил из его поля зрения. Мы, больные, чувствовали себя здесь надежно...
Дооперационная палата, где проводились все необходимые обследования, была большая и шумная. Я затыкала уши ватой и переводила немецкие и английские статьи. Потом слушала радио или читала. Дни проходили незаметно.
Накануне операции пришло письмо от Левы: «Ты будешь здорова, ты нужна нам всем, около тебя люди делаются лучше».
Он очень хорошо знал меня — знал, «на что бить»!
А утром, когда меня окончательно подготовили к операции, сердце впервые сжал страх. Взяла радионаушники, чтобы уйти от этого страха, собраться с силами, сократить оставшиеся часы. Передавали «Зимние грезы» Чайковского. Темная морозная ночь... Путник едет па лошадях, все вперед и вперед. Холодно. Страшно. Он замерзает. Забывается. И вдруг — пробужденье: не надо света, не надо радости, пусть все остается как есть, только жить, только жить! Еще ничего не поздно. Стоит лишь протянуть руку, коснуться плеча ямщика, приказать: назад!
...Я слушаю. И мое тело тоже коченеет от холода. И тоже приходит сомненье: может, и вправду не надо никакой дороги, а только жить, только жить... И еще ничего не поздно, стоит лишь протянуть руку к сигнальному звонку и отказаться от операции: назад!..
Но вот музыка светлеет... Что это там, впереди? Огни!.. Победа...
И я успокаиваюсь: все будет хорошо!
Снова операционная. Около меня присела врач Виктория Максимовна, взяла руку. Анестезиолог наложил маску, повторяя убежденно и ласково:
— Все будет хорошо. Все будет хорошо.
Я отодвинула на мгновенье маску и сказала, уже заплетающимся языком, почти по слогам:
— Я боюсь, что вы у меня что-нибудь спросите, а я не услышу, и вы по-ду-ма-ете, что я сплю...
Отчетливо помню общий смех и откуда-то издалека слова анестезиолога:
— А я ни о чем спрашивать не буду.
Снова маска. Я крепко-крепко сжимаю руку Виктории Максимовны. Сознание уходит. Последняя мысль, нет, даже не мысль, а призыв, отчаянный призыв: мама! мама! мама!..
Врачи говорили, что заснула я легко и спокойно.
А проснулась после наркоза уже в палате. Проснулась сразу, с полным сознанием, и, как мне и теперь еще кажется, от страшной боли. Боль заполняла всю меня и даже все кругом. Виктория Максимовна хлопотала вместе с сестрой у аппарата для переливания крови. Увидела, что я проснулась, улыбнулась:
— Все будет хорошо!
А потом сознание снова уходило, уже не от наркоза, а просто оттого, что было очень худо. Говорят, во всей клинике не было врача, который бы не принимал участия в борьбе за мою жизнь. Не помню. Я просто неимоверно мучилась, и это все, что осталось в памяти. И еще — мама. Она находилась со мной в больнице. И делала для меня тогда невозможное — она всю жизнь делает для меня невозможное.
Когда я пришла в себя, я не узнала маму, так она постарела.
В палате нас лежало десятеро. Пожалуй, больше всего я признательна этим людям за их громадное терпение — все мои бессонные ночи лишали их сна. И ни разу не слышала я ни жалобы, ни упрека. Была в нашей палате девочка Маша шестнадцати лет. Красивая, с большими серыми умными глазами. Родилась и росла она в деревне. Случилось несчастье — Маша потеряла ногу. Вторую оперировали в Москве. Я наблюдала за ней во время занятий лечебной физкультурой, — она скрежетала зубами, глотала слезы, но упражнялась часами, иногда до поздней ночи. И добилась своего: выписалась из больницы без костылей.
Когда меня одолевали приступы боли, Маша старалась отвлечь меня. Чем бы она ни занималась, как бы ни уставала от своих собственных бесконечных страданий, она поднималась с постели, одевалась и садилась возле меня. Надо отдать ей должное — она умела отвлечь меня как никто другой. Уж очень она была хороша собой! А рассказы ее — все равно о чем — полны были такого юмора, что я могла слушать ее бесконечно. Спустя два года я получила от нее письмо. Маша писала из деревни: ходит не уставая по двенадцати километров, сама моет полы в избе. И еще писала, что сторонится людей, стесняясь своего увечья. Это она-то, бойкая, умная, красивая Маша! Писала, что когда ей исполнилось восемнадцать лет, одна женщина сказала:
— Была бы ты девчоночка первый сорт, ну а теперь куда ты годишься...
«Слышали вы когда-нибудь запах липового цвета? — писала Маша. — Как хорошо в деревне! Ирочка, неужели так и не будет счастья?»
И я писала ей о счастье. Писала почти те же слова, какие говорила себе в восемнадцать лет. Я по-прежнему верю, что счастье человека — в нем самом. Только будь Человеком! Всегда, в любых условиях, в любом положении будь Человеком!
Я верю, что счастье зависит не от того, как складывается судьба, а прежде всего — от того, что представляет собой сам человек и каков его внутренний мир. Человек может быть счастлив только тогда, когда его жизнь наполнена настоящим смыслом и содержанием, когда у него есть высокие цели, когда он думает не только о себе, но и о других. Когда человек умеет отдавать себя людям и когда у него есть, что давать, — вот тогда люди будут тянуться к нему, и он никогда не будет одиноким.
И еще я писала Маше о любви. О той любви, которая сильнее смерти, — я все еще верила в такую любовь.
Как-то в письме Машенька поделилась со мной своей заветной мечтой — стать врачом. Сначала она сама, а потом и я за нее обращались в один медицинский институт за другим. И... отовсюду получали отказ. Машу не принимали «по состоянию здоровья». Тогда она сама поехала в ближайший город, разыскала медицинский институт... Уж не знаю, покорила ли она ректора своей настойчивостью, или сумел он разгадать в этой сероглазой девушке силу духа, или просто и в нем билось большое и щедрое сердце, которое так обязательно иметь врачу. Он сказал Маше: «Идите сдавайте экзамены».
Теперь я получаю восторженные, счастливые Машенькины письма о том, как штурмует она латынь, как тайком проникает с шестикурсниками в операционные, как познает цену студенческой дружбе... Ну вот и еще один человек найдет свое счастье, а у больных будет еще одним настоящим врачом больше.
...Приходила я в себя очень медленно. Помню, как нужно было мне позвать сестру и не было сил дотянуться до звонка. Хотела поднести ложку ко рту и не могла. Помню отвращение к пище, которое не могла преодолеть. Не могла оторвать голову от подушки. Часто задыхалась — ослабло сердце. Я не слышала и почти не видела. И даже не испугалась этого — не было сил жить... А когда вышла из самого страшного, тогда поняла, что операция не помогла, выздоровления не будет. Хуже того, операция обрекла меня на полную неподвижность. Но тогда я об этом не думала. Только рвалась домой, подальше от опостылевших мне стен больницы... Профессор успокаивал меня и моих родителей, говорил, что прежнее состояние восстановится, нужно только набраться терпенья и ждать, чтобы окреп организм.
И добавлял, уже одним родителям:
— Только не для этого мы делали операцию...
Он тяжело переживал неудачу, хотя больше других, наверное, понимал: сделано все, что можно.
Родители увезли меня на дачу.
Силы с каждым днем прибавляются. Уже без усилий отрываю голову от подушки, сама поворачиваюсь. Оба брата пытаются поднять меня, поставить на костыли. Это удается с каждым разом легче. На какое-то время загорается надежда: может быть, так и пойдет теперь — лучше и лучше, и окажется, что операция все-таки помогла? Я так и не научилась гасить в себе эти безнадежные надежды. Проходит еще время, и — нет, операция не помогла. Значит, снова все оказалось напрасным. И такое, осознанное до конца, отчаяние сжало мое сердце, впервые за все годы болезни! Это было отчаяние, несовместимое с жизнью...
И все-таки даже тогда победила жизнь. Победила вместе с людьми, которые меня любили, вместе с трудом, которому я отдалась, как только вернулась способность мыслить. А кто же не знает, что любовь и труд совместимы только с жизнью?
15
Именно в это время в мою жизнь вошло чудо. Оно помогло воскресить меня и так же неожиданно ушло... Моя встреча с Валерием в дни студенческой практики оказалась не последней. Мы расстались не навсегда. Через годы разлуки Валерий спрашивал в письме, как сложилась моя судьба и счастлива ли я. Тогда я была счастлива и ответила ему: да. А потом было еще несколько писем, когда мне было уже плохо, но писать об этом не хотелось. Он так и не узнал ничего о моей болезни. Снова прошли годы, и он повторил свой вопрос. На этот раз я ответила: нет. И он пришел. Он пришел, когда его жизнь была уже почти прожита, хотя ему не было еще и пятидесяти лет, ну, а моя так и не удалась. И некого было винить в этом. Через всю свою оставшуюся жизнь, через все свои, и потом и мои испытания пронес он любовь ко мне — пронес и сохранил до самой смерти. Но чудо было даже не в этом. Чудо заключалось в том, что он знал и полюбил меня здоровой и молодой, а встретил вновь и продолжал любить такой, какая я теперь. Он пришел и не увидел ни неподвижности, ни всего того, что сделала со мной болезнь.
...Он сидит возле моей постели и, на минуту прикрыв глаза, говорит мне:
— Ты передо мной такая, какой я встретил тебя на берегу моря, в пестром платье, такая юная и такая красивая...
И мне на эту одну минуту делается страшно того, что вот сейчас он откроет гляза, увидит и поймет, наконец, что той, прежней Иры, давно уже нет. Но он открывает глаза, и по тому, какой нежностью и любовью они светятся, я верю — он никогда не прозреет...
В тот вечер он надел на мой палец обручальное кольцо, хотя не было в нашей жизни ни свадебных тостов, ни белого платья. Были только цветы. На моем столике у окна пламенели алые тюльпаны, и это казалось невероятным среди зимы, на фоне заснеженной крыши соседнего дома. Оттого, быть может, все в тот вечер походило на сказку. Он умел становиться волшебником. Иногда нам обоим хотелось сказать друг другу «прости» — мы угадывали это по глазам. Ему — за то, что в самом трудном он не был со мной рядом. Мне — за то, что молодость свою и все первое в жизни я отдала другому, который так ничего и не сумел сберечь. Но не было ни в чем вины нашей, и, наверное, поэтому в такие минуты мы оба просто молчали.
Во мне все было хорошо для него: и что действительно хорошо, и что он сам выдумал. Он сказал как-то, что со мной легко и спокойно и что я вхожу в его жизнь каждый раз как праздник. Вот в чем заключалось чудо! Ведь у меня не было в жизни ни одной легкой и спокойной минуты, а праздники всегда казались мне самыми тяжелыми буднями. И любил он меня не за мужество. Я была для него просто женщиной и, как всякая обыкновенная женщина, для кого-то одного — лучшей на свете. А он был для меня неиссякаемым источником радости и жизни. И сам очень любил жизнь. Не то чтобы он был особенно веселым, — был он скорее тихим и молчаливым. С самого детства что- нибудь мастерил, изобретал. Вырос и стал конструктором. Увлекся садоводством — даже любовь к природе была в нем действенной. Он растил свой сад с такой же страстью к созиданию, с какой создавал машины. На лето я уезжала, и мы виделись редко. Зато осенние цветы были мои...
Мы были вместе три года, до самой его смерти, и оба недолюбили. Ведь все у нас было только началом. Он мечтал свезти меня к морю, туда, где много лет назад впервые встретил меня. Да и мало ли о чем еще мы мечтали... Разве могла я думать, что он так скоро уйдет из моей жизни и теперь уже навсегда...
Умер он скоропостижно, не болел и ни на что не жаловался. Да он и не умел жаловаться. Очень страшно умирать весной, когда все вокруг пробуждается к жизни. В ту весну осиротел его сад. И — ослепительно сияло солнце, не согревая души... Чудо ушло из моей жизни и оставило после себя большую печаль. Но оставил он не только печаль: он завещал мне жить. Человек не может жить прошлым, но прошлое всегда живет в нем. Счастлив тот, чье прошлое делает его богатым и сильным.
...Еще через годы мне все же удалось снова побывать у моря, там, где мы впервые встретились.
Я лежала, опьяненная медовым запахом цветущих акаций, завороженная шумом морского прибоя, и смотрела в синюю-пресинюю даль, туда, где море сливается с небом. Когда-то мы с ним смеясь гнались в лодке за этой далью, а она все ускользала от нас, как синяя птица... Все здесь, как и прежде, дышало жизнью, словно утверждая бессмертие человеческой любви. Нет, это не была встреча со смертью. Я приехала к нему, как к живому, зарядиться силами еще на годы вперед. Оживал его образ, и мне чудилось, что он разговаривает со мной языком моря и выплескивает к моим ногам вместе с волнами всю нерастраченную нежность...
...Вот так я и живу. Без него. И больше не мучаю себя вопросами, как жить дальше. Жизнь сделала меня мудрой. Только иногда становится трудно видеть солнце — от солнечного света болят не глаза, болит душа...
Двадцатый год я лежу в постели. И теперь уже нет надежды на исцеление. Но я перестала считать, чего в моей жизни нет. Считаю только то, что в ней есть. И оказывается, есть у меня не так уж мало. Вместе со мной живут и делят мою беду мать и отец — мое самое большое в жизни богатство. Годы делают свое дело — незаметно, в заботах обо мне, пришла к ним старость. И теперь уже не они мне — я должна служить им опорой. Не обходит старость и мою, все еще для меня красивую, тетку Ли. Все чаще разлучают нас болезни, порой раскидывают по разным больницам. Случаются и минуты душевной усталости. Тогда жить становится особенно трудно. И все-таки мы еще вместе. А покуда вместе, питаем друг друга той живительной силой, что называют любовью.
Живут со мной и во мне мои братья — живые и мертвые, самые лучшие братья на свете. Растет у меня племянница Инночка, она для меня не только любимый ребенок, но и символ будущего. Я очень хочу, чтобы, если ей улыбнется в жизни счастье, она умела щедро делиться им с теми, кому его не хватает. Ну, а если и соберутся над ее головой тучи, пусть возле нее всегда будут люди, готовые так же щедро поделиться своим счастьем с ней.
Есть в моей жизни работа, которая и сейчас еще врачует меня от старых и новых ран. А покуда есть в жизни работа, есть все: и смысл жизни, и планы, и стремления, и мечты. Меня манят новые языки, как манили когда-то новые дали. Ведь языки — это тоже частица людей, частица земли. А сколько каждый день рождается нового в технике — и это тоже жизнь, и когда стремишься за всем угнаться, то и сама живешь. Наш отдел технической информации уже вырос в целый институт, значит то, что мы делаем, необходимо стране, а значит, и я тоже еще нужна.
А когда выпадают часы досуга, — со мной книги, газеты, радио, телевизор. Они — мое окно в жизнь, и я счастлива, что жизнь с каждым днем становится прекраснее и что в этом ее расцвете есть и частица моего труда. Есть у меня и свои, особенные, большие и маленькие радости. Я радуюсь письмам, приходящим от моих маленьких, а теперь уже ставших большими друзей, которых когда-то учила. В их глазах я хочу навсегда остаться сильной. У меня по-прежнему много верных друзей-товарищей, готовых по первому зову броситься мне на помощь. Их у меня стало даже больше, чем прежде, гораздо больше, и это тоже прибавляет сил.
Читать повесть "Жить стоит" далее (часть 4).
3795 |

|
Ирина Триус |
 Версия для печати Версия для печати |
| Смотрите также по этой теме: |
Жить стоит. Повесть. Часть 2 (Ирина Триус)
Пять вдохновляющих причин остаться в живых (Вопросы истинные и ложные) (Оксана Задорожная, психолог )
Жить стоит. Повесть. Часть 4 (Ирина Триус)
Жить стоит. Повесть. Часть 5 (Ирина Триус)


 Ольга
Ольга
 Михаил Хасьминский, кризисный психолог, член Научно-консультационного совета Московского Межрегионального управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, член Общественного совета федеральной службы исполнения наказаний Минюста РФ, П
Михаил Хасьминский, кризисный психолог, член Научно-консультационного совета Московского Межрегионального управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, член Общественного совета федеральной службы исполнения наказаний Минюста РФ, П
 Психолог Александр Колмановский
Психолог Александр Колмановский
 Александр Колмановский, психолог
Александр Колмановский, психолог
 Дмитрий Семеник, психолог
Дмитрий Семеник, психолог
 Дмитрий Семеник, психолог
Дмитрий Семеник, психолог