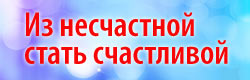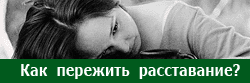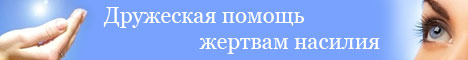Жить стоит. Повесть. Часть 1
Ирина (Эсфирь) Триус родилась 20 февраля 1925 года в большой семье. Тяжелая болезнь приковала ее к постели. Будучи лежащей, она изучила немецкий, английский, чешский, польский, болгарский языки, а впоследствии стала работать старшим научным сотрудником в отделе технической информации Министерства путей сообщения. Еще Ирина преподавала детям в больницах, где лечилась.
В 1965 году вышла ее первая книга «Спасибо вам люди!», в 1969 году – «Жить стоит», которая была удостоена премии имени Николая Островского, в 1975 году - «Год жизни», в 1989 году – «Дорога длиною в жизнь». Все книги автобиографичны.
Информацию о последних годах жизни автора Вы сможете найти в конце книги.
ЧАСТЬ 1
1
Каждый из нас уносит из детства в своих воспоминаниях чей-нибудь светлый образ. У одного это бабушка, у другого — няня, своя Арина Родионовна. Мне из далекого детства светит пламенное сердце брата. «Пламенный» — так писал он на обложках юношеских дневников. По имени одного из героев Джека Лондона. Может быть, поэтому каждым раз в день его рождения, двадцать девятого июля, на протяжении вот уже двадцати семи лет нашей жизни без него, среди цветов, в которых утопает его портрет, больше всего бывает флоксон. «Флокс» по-гречески — «пламя».
Миша родился в Ленинграде, в трудную пору гражданской войны. Он был старшим. Вместе с нами тремя — Мишей, мною и младшим братишкой Женей — росли два наших двоюродных брата, Митя и Борис. Митя и Миша были не только братьями, но и большими друзьями. Ну, а Борис, почти ровесник мне, был моим товарищем в детских играх, а потом — задушевным другом юности.
Как все старшие дети в семьях, Миша рано стал взрослым. Маленький был он очень красив, с золотистыми кудрями. С годами волосы его приобрели пепельный оттенок, черты лица — мужественность. Глаза были серые и словно заглядывали в душу. Был он высокого роста, стройный, атлетического сложения. Сдержанный в проявлении чувств. Вероятно, бесстрашным он был всегда, по крайней мере таким я его запомнила. Мама рассказывает, что эта его черта доставляла ей немало тревог и волнений. Да и на моей памяти он вечно куда-то пропадал или с ним что-нибудь случалось. Он очень любил бродить по лесу. Как-то заблудился, и его долго искали. Когда мы жили на Волге, он решил научиться плавать не постепенно, как другие, а сразу, и бросился посреди реки в воду с парома у всех на глазах. Выплыл. А потом сбросил в реку Бориса и тоже научил его плавать.
Отчетливо помню наш двор в Воронеже и конуру с огромным злым псом на цепи. Цыган наводил ужас на всю детвору. Помню, играли мы с ребятами, и мяч закатился прямо в конуру к Цыгану. Ребята обомлели. Казалось, мяч потерян навсегда. А Миша — мы и оглянуться не успели — влез в конуру и достал мяч.
Миша не знал страха, учил и меня его преодолевать. И если я, уже взрослая, испытывала страх, то всегда умела его побеждать. А ведь в детстве была трусихой: боялась оставаться одна в квартире, боялась грозы, боялась коров... Как мне пригодилась потом в жизни его школа мужества!
Нам, младшим детям, Миша отдавал много своего времени. Гулял с нами, кормил, укладывал спать, а когда мы подросли, помогал учиться. Нам было интересно с ним играть, и мы очень любили слушать его нескончаемые сказки, которые в основном он сам и выдумывал.
Чаще всего игры и сказки сочетались — фантазией он обладал необычайной. Он любил все прекрасное и оставался романтиком до конца своих дней. Больше других нравились нам игры и сказки про джунгли. Под письменным столом мы устраивали хижину. Зажигали лампочку, покрывая ее лоскутом красной материи. На каждом шагу поджидали нас «опасности». Это были самые счастливые часы детства.
Дома Миша часто что-нибудь мастерил. У него была целая мастерская. Инструменты он собирал любовно, как другие собирают коллекции. Он все в жизни стремился делать сам, даже шить умел.
Маме он был первый помощник с самого детства. Грузил с другими мальчишками арбузы и потом с гордостью приносил заработанный арбуз к обеду, на третье. А позднее, уже будучи студентом, оставался после практики работать на заводе во время каникул, отдавая маме деньги на дачу для нас, младших. Вообще работы, труда, даже самого тяжелого, он никогда не боялся.
Был он маме и моральной опорой, умный, душевный и очень щедрый уже в свои ранние годы. Папа по роду работы много разъезжал, и в его отсутствие Миша оставался для мамы главным советчиком. Маму сближала с Мишей еще и общность натур, внутреннее созвучие характеров. Он не просто унаследовал от мамы все самое лучшее — он был лучшей ее частью.
Все мы очень любили животных, особенно собак. Больше других запомнилась мне овчарка Джерри, которая жила у нас перед войной. Собаку эту подарили Мише, он уделял ей много внимания, а она платила ему за это собачьей преданностью и почти человеческой любовью. Погибла Джерри за год до войны. Я шла с ней через шоссе, она забежала вперед, а навстречу неслась машина. Джерри подбросило в воздух, упала она уже мертвая. Это была моя первая в жизни потеря, и я тяжело переживала ее.
Жили в нашем доме стихи, песни, музыка. Стихи Миша сочинял сам, впрочем, как и я, но очень удачно. Он всегда жалел, что его не учили музыке, и, может быть поэтому, так радовался, когда видел меня за роялем. Зато пел он много. Так и ушел с песней навстречу смерти. Он был влюблен в жизнь, а когда потребовалось, без колебаний отдал ее за то, чтобы могли жить другие.
Миша окончил школу. Пришло время выбирать профессию. Он нашел поэзию в технике, хотел созидать. Выбрал Миша химию. Кто-то сказал, что химия — наука смелых. В вестибюле Менделеевского института на мраморной доске среди имен студентов, отдавших жизнь за Родину, золотыми буквами вписано и его имя. В этом институте начался его путь в науку, которой он увлекся самозабвенно, как и всем, что делал. В нем было упорство настоящего исследователя. Перед самой войной было одобрено первое его изобретение. Он учился тогда на четвертом курсе. Его жизнь оборвалась слишком рано. Кто знает, чего достиг бы он в науке. Миша так много мог дать людям. Да ведь он и отдал самое ценное: жизнь...
С детства Миша увлекался спортом и вырос спортсменом. Он не раз говорил мне, что люди, не знающие радости спорта, обедняют свою жизнь. Он занимался гимнастикой, волейболом, легкой атлетикой, боксом, с восемнадцати лет — парашютизмом. Стал парашютистом-инструктором, а затем еще и летчиком. И навсегда полюбил небо.
К комсомолу Миша относился благоговейно и вступление в его ряды расценивал как самое счастливое событие в своей жизни.
Меня Миша очень любил. Помогал, когда было трудно в учебе. Он был требователен ко мне до придирчивости и в то же время баловал как только мог. Никогда не приходил с какого-нибудь празднества или даже из театра, не принеся мне чего-нибудь вкусного. Такова была потребность его души: испытывая радость, он не мог не доставить радость другому.
Влияние на меня старшего брата вышло далеко за пределы детства, и многим лучшим во мне я обязана ему. Он дал мне очень много при жизни и еще больше оставил после смерти...
Мне едва исполнилось шестнадцать лет, когда Миша ушел из моей жизни. Я не успела узнать его до конца, да и так далеко еще было до конца... Я знала его дома, а были у него еще институт, аэроклуб, товарищи, любовь. Первого мая тысяча девятьсот сорок первого года — последний Первомай его жизни — он, видимо, сочтя меня достаточно взрослой, пригласил на дачу, в свою студенческую компанию. Я постеснялась, не поехала, а потом не простила себе этого: мне могла приоткрыться неведомая часть его жизни. А когда его уже не стало, лихорадочно собирала следы этой жизни. Склеивала разорванные его дневники, перечитывала письма, копалась в оставшихся документах, ходила по аудиториям, где он слушал лекции, разыскивала старых его товарищей, познакомилась с девушкой, которую он любил. Жадно впитывала в себя все, чем он жил...
Митя не походил на Мишу. Был он среднего роста, коренастый, брюнет. Уже до войны стал военным и потому дома бывал редко. Запомнился он мне веселым, жизнерадостным, много и хорошо смеялся. Как и Миша, любил петь. В дом он вносил оживленье, добрую шутку, острое слово. Умел интересно рассказывать. Жил он легко, размашисто, и, казалось, жизнь так и будет всегда улыбаться ему. Меня Митя тоже любил, но как-то безрассудно, почти легкомысленно. Украдкой ото всех решал за меня задачи по математике. Угощал конфетами перед обедом. Привозил подарки не по моему возрасту. Для таких, как Митя, любовь — всегда слабость. Он не умел противиться своим добрым чувствам. Был мягким там, где порой нужна была твердость. Таким я, конечно, знала его дома. Он любил свою службу, любил нелегкие армейские будни. Был отважным воином и хорошим командиром. Об этом я узнала позднее от его бойцов, когда самого Мити уже не стало. Из тех же довоенных лет запомнилось мне, как у нас в школе он рассказывал о службе на границе. Я училась тогда в шестом классе. Но и сейчас еще помню, как восхищенно слушали его наши мальчишки. Часть их уважения перепадала и на мою долю — мальчишки завидовали, что у меня такой брат.
...Митю постигла участь Миши. Погиб он в разведке, на Сталинградском фронте. Оба они не познали не только счастья победы, но и радости нашего наступления...
Борис причинял маме хлопот больше, чем другие дети. Он изощрялся в шалостях, далеко не всегда безобидных. Особенно доставалось младшему братишке, да и мне нередко перепадало от него. Однажды он поведал мне тайну моего «происхождения», рассказав «трагическую историю» о том, как меня, подкидыша по имени Милана, нашли мои теперешние родители. Я молча переживала свою «трагедию», а родители не могли понять причины моих переживаний. Когда его проделка раскрылась, меня долгое время называли в семье «чужая Милана».
В школе учителям тоже было с ним трудно. Зато ребята любили его за веселый и добрый нрав. Среди них он всегда был вожаком. В детстве и юности Борис любил театр. Он учился в детской театральной студии. Особенно удавались ему комические роли. Нередко он устраивал вместе с нами спектакли дома. Теперь я думаю, что в его постоянных детских выдумках и затеях, которыми он увлекал и меня, в этих его бесконечных импровизациях и проявлялись тогда актерские способности. Любил он до самозабвения и футбол, любит его и до сих пор той нестареющей любовью, какая бывает у мужчин, до седых волос сохраняющих мальчишеский задор.
На фронт Борис ушел, когда ему едва исполнилось семнадцать. Служил в артиллерии, был не раз ранен. Вернулся коммунистом — повзрослевший, возмужавший. Надо было поскорее приобретать специальность и начинать строить мирную жизнь. Он выбрал профессию строителя.
Самый младший, Женя, рос тихим, спокойным ребенком. Он отличался легким и ровным характером, был неизменно приветлив и доброжелателен к людям. Для всех моих братьев я была единственной сестрой; для Жени я была еще и старшей, и это налагало на меня особые обязанности. Он как хвостик всюду тащился за мной. Ребята в переулке прозвали его «довеском». Как-то одна из подруг, пригласившая меня на день рождения, пренебрежительно добавила: «Ладно уж, приводи и «довеска». Мне было очень обидно за брата, но в гости я к ней пришла и «довеска» тоже привела.
Детство Жени оборвала война. В сорок первом году ему было одиннадцать. На его плечи легли недетские заботы. В нашей семье, сразу ставшей маленькой, он остался единственным мужчиной и по-мужски заботился о нас: пилил и колол дрова, топил печь, носил воду, сажал, окучивал, выкапывал и перетаскивал картошку. Недоедал, хотя мы с мамой всегда старались отдавать ему лучшее из того, что у нас было. Может быть потому, что лишения выпали на его долю раньше, чем на долю нас остальных, а может быть, и просто потому, что его так легко было обидеть в детстве, я всегда жалела его, и он долго оставался в моих глазах маленьким. А взрослым стал сразу — тогда, когда в моей жизни случилось самое страшное... Женя стал мне опорой, и я почувствовала, что он давно уже мужчина — сильный и благородный.
Его призвание к математике угадывалось уже в детстве. Ей он и посвятил себя, когда стал взрослым.
Я росла в большой семье, в атмосфере щедрой мальчишеской дружбы. В доме нашем всегда было людно. Особенно много бывало молодежи — наших товарищей и подруг. Мама, учительница по профессии, всю жизнь жила для детей — своих и чужих. Да и вряд ли каких бы то ни было детей она считала чужими. Ученики ее часто бывали в нашем доме, и мы дружили с ними. Может быть, именно потому, что около нее всегда были дети, молодежь, мама сохранила молодость души до сих пор, наперекор всем ударам судьбы. В войну погибли ее родители и сестры. В войну мама потеряла старшего сына. А когда случилось несчастье со мной, она сумела и это свое горе запрятать так глубоко, что в доме осталось светло, и люди по-прежнему тянутся к нам «на огонек».
Мой отец всю жизнь занимался статистикой сельского хозяйства и, сколько я помню его, разъезжал. Иногда вслед за ним отправлялись всей семьей и мы. В детстве отец был для нас праздником, а когда мы выросли, стал нашим советчиком и другом. Теперь, когда мне бывает очень трудно, он сидит около моей постели и молчит. Просто молчит. И мне становится вдвое легче — он забирает у меня половину моего горя и взваливает на свои плечи. И при этом даже не горбится... У меня не было в жизни начинания, которого бы не поддержал отец, как и не было трудной минуты, которую бы не разделила мать.
В нашем доме я всегда помню присутствие младшей сестры мамы, моей тетки Ли, так я звала ее. В детстве я мечтала быть похожей на нее — она казалась мне самой красивой женщиной на свете. В юности она стала мне подругой, и дружба наша почти сгладила разницу в возрасте. Меня притягивало к ней ее почти юношеское восприятие жизни. И в то же время всегда стоило прислушаться к ее житейскому опыту. Когда же случилось со мной несчастье, она словно сосредоточила на мне свои чувства, и мы вместе проходили все испытания. Коли бы не она, мне, наверное, очень не хватало бы в жизни сестры.
2
Начальную школу я не любила. Помню только, как готовилась к ней. Почему-то тогда для поступления в первый класс дети сдавали экзамены. Я начала читать рано, лет пяти, и, поступая в школу, свободно читала и писала. Миша же решил, что меня надо готовить к экзаменам по политграмоте, и ужасался тому, как слаба я в ней в свои семь лет. Лекции его мне, конечно, на экзамене не пригодились...
Помню, с какой гордостью отдавала я свой первый пионерский салют и как трепетно произносила слова торжественного обещания. А впереди грезились дальние походы, костры на полянах, жизнь, полная заманчивых открытий и непременно подвигов...
Полюбила и по-настоящему запомнила я школу начиная лишь с пятого класса. Особенно любили мы учителя математики Сергея Николаевича Знаменского. Вряд ли мне удастся сейчас воссоздать его портрет. Мне хочется сказать о нем то же, что говорят все дети, когда кого-нибудь любят: он был хороший. Таким и запомнился. И все же, вероятно, самым главным было его уважение к нам, одиннадцати-двеннадцатилетним. Мне кажется, что каждый из нас именно с ним почувствовал себя впервые в жизни Человеком. Не ребенком, не девочкой или мальчиком, а — Человеком.
Самое важное событие в моей школьной жизни произошло, когда я училась в седьмом классе: меня приняли в комсомол. Я подала заявление в день рождения — не могла ждать ни единого лишнего дня. И, как только стала комсомолкой, направили меня пионервожатой в четвертый класс. Я любила детей всегда. Когда меня, первоклассницу, спрашивали, кем я хочу быть, я отвечала: «Нянечкой в школьной раздевалке». А когда спрашивали, почему не учительницей, я объясняла: «У учительницы один класс, а у нянечки — вся школа».
Восьмой класс был для меня самым счастливым. И — последним: война оборвала мою школьную жизнь. Они раскидала нас, мальчиков и девочек, по стране, по фронтовым дорогам. Многие так и не вернулись...
В классе жили мы дружно, было нам всегда как-то радостно, светло. Классная руководительница Лидия Макаровна Шапошникова преподавала русский язык и литературу, и больше всего я благодарна ей за то, что она научила меня любить книги. Сколько раз позднее, когда иссякали душевные силы, я протягивала руку за книгой и находила в ней помощь. А в одну из таких минут Лидия Макаровна и сама как бы обернулась для меня книгой: писала мне письма, одно за другим, — они были как главы одной повести, повести о мужестве.
Лидия Макаровна родилась и выросла на Урале. Ее отец, Макар Георгиевич Верушкин, о котором упоминает Короленко в очерке «У казаков», был словесник. Самозабвенно любил он родной язык и литературу и жизнь свою посвятил просветительству. Все три дочери его стали сельскими учительницами.
Лидия Макаровна окончила в Петербурге Высшие Бестужевские курсы. В тридцатые годы переехала она вместе с мужем и сыном Юрой в Москву. Впрочем, мы, школьники, думали, что у нее два сына. Только став взрослой, узнала я, что Толю взяла к себе Лидия Макаровна перед войной. Толю ждал детский дом, он ночью прибежал к своей любимой учительнице, которая заменила ему мать.
Когда я пришла к Лидии Макаровне после войны, то уже знала, что на фронте погибли ее муж и сын — единственный ее родной сын. Долго стояла я у ее дверей, не решаясь позвонить. Открыла она сама — все такая же стройная, красивая. Только седая. В комнате я увидела незнакомого мальчика — Игорь был тоже ее учеником, уже военных лет. Мать, обремененная большой семьей, хотела забрать его из школы. Игорь же мечтал учиться. Лидия Макаровна взяла его к себе. Живя у нее, он окончил институт, стал инженером.
Потом, после войны, жил у нее Эдик. Мальчик потерял родителей. Лидия Макаровна воспитала и Эдика, он тоже получил высшее образование.
А потом была Наташа. Они с матерью остались после войны без крова, скитались по родственникам, знакомым. Наташа каждый день опаздывала на уроки. К тому же она была трудным, неуживчивым ребенком. Лидия Макаровна положила конец ее «бродяжнической» жизни и забрала к себе. Сейчас Наташа филолог. Она — гордость Лидии Макаровны.
Ответственность за каждого, с кем приходилось сталкиваться, — а таких было в ее жизни множество, — вот, пожалуй, то главное, что составляет ее сущность. Лидия Макаровна никогда не была добренькой. Ей присуща доброта активная, действенная, та, что познается не на словах, а на деле. Она всегда была требовательной, строгой, подчас суровой. Но мы любили ее. И мечтали «делать с нее жизнь». Мы продолжали ее любить и «делали с нее жизнь», став взрослыми. С ней мы советовались в трудные минуты, с ней делили радости. Она стала для нас как бы эталоном, по которому мы оценивали свои и чужие поступки. Мне и сейчас еще слышится из далекого детства ее звонкий молодой голос, каким читала она двадцать семь лет назад на уроке литературы строки Горького: «Все о Человеке — все для Человека!»
Она первая открыла мне Горького...
Сейчас Лидии Макаровне уже больше семидесяти, и она давно могла бы уйти на покой. Но покой — не для нее. Покуда есть люди, дети, которым она нужна, — а нужна она всегда, — она «при деле». Здоровье все реже позволяет ей бывать в школе. Зато нескончаемым потоком идут в ее дом мальчишки и девчонки с ее двора, с улицы и учатся у нее всему, чему учились у нее в школе мы.
Она приобщала нас к родной природе, каждая смена времени года отмечалась нами как праздник. Мы устраивали фестивали весны, зимы, лета, осени. Начинали их в классе стихами и музыкой, а заканчивали где-нибудь в лесу. Она учила нас родному слову, и даже уроки грамматики превращались в увлекательнейшие игры. Водила в Третьяковку, в консерваторию, в театр — и искусство навсегда вошло в нашу жизнь. А уж поэзия!..
Мы готовились к Лермонтовскому вечеру долго, тщательно. Меня в числе нескольких девочек отобрала Лидия Макаровна танцевать лезгинку и пригласила балетмейстера. Мы развесили у школы афиши, разослали гостям пригласительные билеты, приготовили угощение. И читали и слушали допоздна... То был мой последний вечер в школе...
Новый, тысяча девятьсот сорок первый год мы встречали школьной компанией. Нарядили елку, и даже куплено было вино... Танцевать я любила с самого детства и танцевала, пока не слегла... И в тот вечер я танцевала без устали, а мой одноклассник Борька сидел в углу нахохлившийся, как воробей: он не умел танцевать. Молча сердито смотрел на меня, а когда расходились по домам, сказал:
— Ты мне нравишься больше всех девчонок на свете!
И поцеловал почему-то в ухо.
Любимой назвал он меня несколькими месяцами позже, в письме со штемпелем полевой почты. Нас тогда уже разделяли тысячи километров войны.
Боря погиб под Смоленском.
3
Война все в жизни перевернула.
Первым в семье ушел на фронт Митя, прямо из военных лагерей близ западной границы, на рассвете двадцать второго июня, когда мы даже не знали, что начались бои.
Вторым уходил Миша — добровольцем в Особый коммунистический батальон. Меня послали в магазин купить ему в дорогу носки. Я бежала и плакала. Выбрала самые лучшие, самые дорогие, шелковые, яркие. Это в сапоги-то! А на оставшиеся деньги купила любимую его халву — много, целый килограмм. Я еще не знала, как провожают солдат на фронт. Третьего брата — Бориса — провожала я через год иначе. Знала я тогда уже и другое — не все солдаты возвращаются...
Мы обнялись с Мишей, и последнее, что я услышала от него, были слова:
— Береги маму.
Их было много, студентов добровольцев. Они шли на фронт с верой в победу и с песней: «Уходили комсомольцы на гражданскую войну». Снова уходили комсомольцы. Только теперь это была для нас, молодых, уже не история, это была наша жизнь...
Так кончилось детство.
Осенью нас с учреждением отца эвакуировали в Сибирь, в Томск. Как и все в то время, жили мы фронтовыми сводками да треугольниками солдатских писем.
Погибли один за другим оба старших брата, и в морозный день тысяча девятьсот сорок второго года проводила я на фронт третьего. Я одна собирала его в дорогу — отец работал в Москве, мама лежала в больнице. Я проводила его до перекрестка. Мы обнялись, и он сказал:
— Чур, не оглядываться!
Я прошла несколько шагов, не выдержала — оглянулась. Он тоже стоял и смотрел вслед...
Я окончила курсы санитарных дружинниц и работала в госпитале. Делать приходилось все — уколы, перевязки, мыть полы, носить судна, кормить с ложки тяжелораненых. Когда работы становилось поменьше, мы устраивали концерты — профессиональных артистов не хватало. Я танцевала. Раненые звали меня «Цыганочкой».
Больше других запомнился мне девятнадцатилетний паренек — казах без обеих ног. Он смотрел невидящими глазами в одну точку и отказывался есть. Никакие уговоры не помогали. Парень просто не хотел жить. Я не понимала, почему он не получает писем, а когда спросила, услышала:
— Для них я умер. Так лучше, чем явиться домой калекой.
Я и голос-то его, кажется, услышала тогда впервые.
Меня словно хлестнул кто по лицу:
— Я бы считала себя самым счастливым человеком на свете, если бы мой брат вернулся таким. А мама...
Вечером он диктовал, а я писала письмо его родителям.
Я «согрешила» тогда — написала письмо по-своему. А он не просил перечитать. Когда пришел ответ, я узнала это по его глазам — влажным и счастливым. Отвечал отец, но я не смогла прочесть письмо — оно было написано по-казахски. Да и не надо было переводить — все было ясно: будет жить!
Работая, я продолжала учиться, сдавала экзамены экстерном в школе рабочей молодежи. Занималась, как правило, ночью при свете коптилки. За один год прошла девятый и десятый классы и поступила в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, он тогда тоже был в Томске. Я выбрала его потому, что хотела идти по стопам своих старших братьев — стать инженером. А еще потому, что меня привлекала жизнь на колесах.
Занятия в институте начались не сразу. Сначала нам, студентам, довелось заглянуть в свое инженерное будущее — строить железнодорожную ветку. Я возглавляла одну из студенческих бригад. Работали поздней осенью, по колено в грязи. Вероятно, тогда все и началось... Помню, поднимаю тяжесть и думаю: «Почему говорят — надорвешь живот?» Мне казалось, что я надрываю спину. По ведь кому-то надо было построить эту ветку. Надо было для нашей победы. И мы, студенты, построили ее!
Вернулись в Москву весной тысяча девятьсот сорок третьего. Город еще погружался во мрак — ни в окнах, ни на улицах не было огней.
В институте я очень дружила с Валей Ивановой. Мы даже влюблялись, кажется, в одних и тех же ребят. Мы делили с ней хлеб и кров. И даже тему дипломного проекта разделили пополам: ей досталась механическая часть электровоза, мне — электрическая. Занимались мы всегда вместе и, отправляясь на практику, жили тоже вместе. Только в рейсы ездили порознь и встречали друг друга так, как в семьях встречают из поездки машинистов. Слова «Держись, Ирок, не пропадем!» она произнесла, кажется, первый раз перед экзаменом по сопромату. А потом эти ее слова поддерживали меня в самые трудные минуты жизни. Они стали для меня словно девизом.
Верного друга нашла я и в Леве Гуткине. Он умел как-то незаметно оказываться рядом как раз тогда, когда очень нужна была его помощь. А потом так же незаметно уйдет. И никогда не напомнит, как выручал меня.
4
Отгремела война, и учиться сразу стало легче. Самым радостным воспоминанием той поры остались дни студенческой практики. Первая проходила на Полтавском паровозоремонтном заводе. Мы проезжали мимо искалеченных войной городов и видели на дорогах вереницы людей, изголодавшихся, измученных, возвращающихся на Родину из неволи.
Завод сначала подавил нас своей мощью. Мы помогали инженерам конструкторского бюро делать чертежи. Любовались плавкой в литейном, где воздух пропитан мелкой черной угольной пылью, а от жары пересыхает во рту. Смотрели, как люди укрощают в печах пламя, готовое пожрать нас всех, и как льется по формам жидкий огонь... А потом упивались красотой украинских ночей и бродили под луной, пьяные от счастья.
Вторая практика проходила на Кавказе. Жили мы в маленькой затхлой кладовке, спали на полках, где раньше лежали овощи. А вокруг был мир чудес! Встречали восход солнца в горах, когда не только небо — вершины гор пламенеют. Ночью в горах прислушивались к дыханию темноты, к шорохам земли. Идешь молча, думаешь и, словно в подтверждение своим мечтам, видишь падающую звезду. Да мы и без этой приметы верили: все мечты сбудутся.
Я жила жизнью, к которой стремилась, поступая в институт, жизнью на колесах. Мы «накатывали километры»: сами водили поезда... Вот вхожу в кабину, по-хозяйски оглядываю ее, любовно обтираю приборы. Машинист дает полную свободу действий, а сам молча наблюдает. Поворачиваю рукоятку контроллера, и поезд трогается. Такой послушный!
Больше всего нравились ночные рейсы. Смотрю, как чернеет небо впереди, и вместе с поездом врезаюсь во тьму. Жду, когда из-за гор вылезет луна... Снова встречаю рассвет в горах... И всё на колесах... Мчишься на полной скорости, и тебе открыта «зеленая улица». Казалось, мчишься в жизнь, и это она открыта тебе всеми своими призывными огнями...
...Я впервые у моря. И переживаю здесь свое первое большое чувство. Были мы с Валерием совсем разные — у него позади опыт трудовой жизни, военных дорог, я только начинала жить. Я была веселой, много смеялась, откровенно наслаждаясь счастьем. Он — внешне сдержан, немножко медлителен, спокоен. Мое чувство к нему было всепоглощающим — я жила только теми минутами, когда он был рядом. Валерий заполнил собой всю мою жизнь, такой счастливой я не была никогда... Что-то удерживало нас обоих от последнего шага. Меня, наверное, моя нетронутая молодость. Его, по-видимому, уважение к этой молодости и, как он сказал мне позднее, через много лет, ответственность за мое будущее. (Разве мог он знать, что у меня нет будущего?) Он был связан семьей, которую не посмел разрушить, хотя что-то раскололось в нем самом задолго до встречи со мной. Он сказал мне:
— Всю жизнь я мечтал встретить тебя. Но за наши ошибки не должны расплачиваться дети.
Нет, семью он оставить не мог. Нам предстояло расстаться навсегда... Это было чужое счастье... И не дано было знать, что он придет ко мне и скрасит самые трудные годы моей жизни, ну а я буду последней его любовью, последней радостью.
Наша практика приближалась к концу. Его отпуск, который он проводил здесь, тоже кончился. Уезжали мы вместе — нам хотелось быть вместе до тех пор, пока это было возможно...
...В институте стояла напряженная пора. Мы сдавали последние экзамены. Я приступила к дипломному проекту — конструкции нового электровоза — и отдавала ему все дни и все ночи. Я переживала трудные и радостные минуты творчества.
Перед защитой дипломного проекта свершилось самое значительное в моей жизни — меня приняли в члены Коммунистической партии. Так, почти одновременно, я стала коммунистом и инженером.
5
Депо сразу понравилось. Мне пообще нравилось всюду, где рельсы и поезда. Был обеденный перерыв, и я проходила мимо группы рабочих, оживленно беседовавших. Меня окликнули:
— Девочка, ты к кому?
Краска залила лицо. Ну, почему я уродилась такой, что меня и в двадцать два года все принимают за девчонку? Чего бы я ни отдала, чтобы выглядеть старше, солиднее!
Начальник депо обстоятельно знакомил с будущей работой. Мне предстояло возглавить сектор рационализации и изобретательства. Для меня это было дело совсем незнакомое. К тому же пришлось по совместительству заниматься и техникой безопасности — отдельной штатной единицы не было.
А в ушах все звучало: «Девочка, ты к кому?»
Еще через несколько дней я получила железнодорожную форму с погонами инженер-лейтенанта и сразу стала выглядеть солиднее. Но я хорошо понимала, чго настоящий авторитет принесут мне не погоны — его должна я завоевать.
В депо прислали нас из института сразу десятерых. Ходили мы первое время стайкой. Все вопросы — маленькие и большие — обсуждали вместе. Вместе переживали успехи и неудачи каждого. Конечно, начинать трудовой путь бок о бок с товарищами, с которыми связывали годы студенческой жизни, было и легче и надежнее.
Оказалось, что защита дипломного проекта — далеко не последний экзамен на звание инженера. Здесь, в депо, — вот где пришлось сдавать экзамены потруднее: и на инженерное звание, и на умение работать с людьми. Пожалуй, второе давалось легче — сказывался многолетний опыт комсомольской работы. И это же помогало в первом — очень скоро я сдружилась с людьми, на которых могла опереться в работе и у которых продолжала учиться, уже будучи инженером.
Прежде всего, сами рационализаторы сразу вызвались помочь мне. Начинать надо было с рассмотрения старых рационализаторских предложений, которыми, как оказалось, были завалены ящики моего стола. В них лежали десятки тысяч рублей экономии — надо было только поскорее получить эти деньги.
Когда был дан ход первым предложениям, посыпались другие, и дело пошло. Было даже организована особая экспериментальная бригада во главе с лучшим рационализатором, Александром Петровичем Тихомировым. Он все мог, все умел и казался мне волшебником. Я упорно искала в нем что-то необыкновенное, пытливо всматриваясь в черты его лица. А был он удивительно обыкновенный. Роста — невысокого, лицо — круглое, глаза — небольшие. Улыбка была добрая и открытая. И ходил он не торопясь, и говорил медленно. Зато как быстро работала его мысль! Я все хотела уловить этот непостижимый для меня процесс рождения и работы его рационализаторской мысли. Иногда я украдкой наблюдала за Тихомировым, когда он задумывался. Глаза делались еще меньше, а вокруг них собирались морщинки — взгляд становился сосредоточенным. Я наблюдала за ним и боялась дышать. Зря, конечно, — в цехе стоял такой шум, что никто и не мог услышать моего дыхания. А сам Тихомиров был поглощен своей мыслью и не замечал никого...
В работе по технике безопасности и охране труда моим помощником был слесарь моторного цеха Иван Степанович Щекин, позднее его избрали председателем местного комитета. В памяти моей он остался одним из самых светлых людей в депо, да и не только в депо — в жизни. Был Щекин уже не молод и наделен жизненным опытом, которого так не хватало тогда мне. По депо он ходил твердо, уверенно, по-хозяйски вглядывался во все. Ему до всего было дело, а особенно до людских тревог. Удивительно, он располагал к себе каждого, совершенно не заботясь об этом. Когда у меня что-нибудь не ладилось с работой, я частенько бегала в моторный цех. Мне даже не обязательно было советоваться с Щекиным и делиться с ним своими переживаниями. Стоило лишь на расстоянии понаблюдать, как он работает, и его спокойная уверенность передавалась мне. У него были большие, сильные рабочие руки, они умели быть очень добрыми, если это кому-нибудь было нужно. Я глубоко привязалась к нему и гордилась тем, что он платит мне такой же привязанностью. Моим другом он оказался и тогда, когда я очутилась в беде. Пожалуй, это был самый преданный друг из всех деповчан. Испытанно временем и бедой... его выдерживает не всякая дружба. На его глазах рушилось мое счастье, и он не просто сочувствовал, — действовал! Пожалуй, больше других он понимал, что мне нужно: собирал и привозил в больницу номера газеты «Гудок», фотографии людей, цехов, новых локомотивов и вагонов. Понимал, как я тоскую по депо.
Главного инженера — Александра Петровича Городецкого — я побаивалась. Он любил задавать нам, молодым инженерам, самые каверзные вопросы. Могла идти беседа на любую общую тему, а он вдруг ставил тебя в тупик каким-нибудь, как мне тогда казалось, совершенно никчемным вопросом. Я в таких случаях терялась и нередко отвечала невпопад. Потом поняла — он учил нас думать, все время думать. И очень заботился о нас. Это был первый человек, к которому я пришла со своей бедой...
Когда назначили меня инженером по электрооборудованию моторовагонного подвижного состава, большую часть времени я стала проводить в смотровых канавах. Мне полюбился даже запах их, он въелся в память на всю жизнь. Я и сейчас еще, бывает, зажмурю глаза, представлю себя в депо, потяну носом воздух — и словно ощущаю этот далекий и близкий до боли аромат деповской канавы...
Мне нравилось в депо все. И даже не столько техника, сколько атмосфера постоянного движения. Ведь сама работа в депо определяется графиком движения, по часам и минутам нужно «выдавать» локомотивы и моторовагонные секции под поезда. Вот этот особый ритм жизни, постоянное напряжение, когда время исчисляется минутами, — пожалуй, это и нравилось мне в депо больше всего.
Теперь мне много приходилось работать в цехе текущего ремонта. Руководил цехом мастер Сазонкин, человек преклонного возраста, всегда казавшийся чем-то недовольным. И меня он поначалу встретил не очень доброжелательно, скорее даже пренебрежительно — девчонка! Потом привык, стал относиться благосклоннее. О настоящем же его расположении я узнала много позднее, когда случайно услышала оброненные им слова: «Не уберегли девчонку...»
Больше других сдружилась я со слесарем-электриком Николаем Барминым. Молодой, умный, смекалистый, добрый, грамотный, любознательный, находчивый, — с ним было очень интересно работать! Иногда, уже закончив рабочий день, мы отправлялись в рейс, чтобы проверить, как ведет себя после ремонта наша машина. В дороге он угощал меня сдобными булками — ведь мы выезжали, даже не успевая перекусить. Он был хорошим товарищем. Позднее избрали его секретарем партийной организации.
В институте нас учили многим мудрым вещам. А пришла в депо — и не умею самого простого. Зато Николай досконально знал аппаратуру и отлично разбирался в самых сложных электрических схемах. Вообще я многому научилась в цехе текущего ремонта, и если бы не так скоро ворвалась в мою жизнь болезнь, то из меня, вероятно, получился бы здесь настоящий инженер...
Как-то на собрании начальник депо сказал, что, если мы, молодые инженеры, хотим по-настоящему знать и чувствовать машину, нам необходимо получить права управления. Никто не чувствует машину так, как машинист! Разумеется, мы откликнулись на этот призыв и вечерами после работы принялись «накатывать километры». И снова, как когда-то, в дни студенческой практики, чувство владения машиной гипнотизировало меня. И, хотя сама езда не была здесь такой интересной, как на Кавказе, — не та природа, и не встречали мы на колесах рассвет в горах, — зато глубже стало знание машины, ну, а романтику я находила повсюду, где было движение.
На производство я пришла не только молодым инженером, но и молодым коммунистом. И сразу окунулась в беспокойную партийную жизнь. Меня избрали ответственным редактором деповской печати. Это дело я любила и отдалась ему с жаром. Хотелось, чтобы стенгазеты были интересными, чтобы около них всегда толпился народ. И мы решили прежде всего увлечь молодежь. А поскольку среди нашей и деповской молодежи большой популярностью пользовалась футбольная команда, то и начали мы со спортивных выпусков. Так стала я одной из самых заядлых болельщиц. И ездила с нашими футболистами на все состязания. Конечно, не всегда были удачи и даже, кажется, больше было неудач, которые мы, болельщики, очень близко принимали к сердцу. Футбол же я тогда полюбила всей душой и на всю жизнь.
Помню, играла наша команда с командой соседнего депо на стадионе «Стрела», где мы были хозяевами поля, но не смогли, как это полагается, обеспечить игроков медсестрой. Когда я, на минуту отлучившись, подошла к ребятам, их взоры были обращены ко мне, а судья спросил:
— Вы — медсестра? Йод, бинты с собой?
Я взглянула на ребят и соврала:
— Да.
После этого случая начальник депо — сам отчаянный любитель футбола — выдал мне справку о том, что я сопровождаю команду как медсестра, и я таскала с собой йод и бинты. Да ведь я и окончила в войну курсы санитарных дружинниц.
За первыми спортивными выпусками появился сатирический «Перец». Возле свежего «Перца» всегда собирался народ. Мы крепко проперчивали всех, кто плохо работал. Критиковали беспощадно, порой зло. Помню, как мастер строительного цеха, бывший фронтовик, раненый и контуженый человек, пригрозил мне палкой, и не в шутку, — всерьез! А протаскивали мы его за дыры в полу, за течь в потолках, за окна без форточек. Теперь я думаю, что были мы, верно, не всегда справедливы к этому усталому человеку. Молодость бывает нетерпимой...
Ну, а с Аликом мы познакомились еще в институте. Он отставал от меня в учебе на два года, хотя по возрасту был на полтора года старше. Поступил он в институт после тяжелого ранения. Учиться было трудно. Отец — инвалид, почти слепой. Сестра — школьница. Главой семьи была мать, женщина энергичная, неутомимая, властная. Она много работала и по существу одна содержала семью. Жилось им тяжело, зачастую приходилось отказывать себе в самом необходимом. Алик очень любил мать и всегда был ей благодарен за то, что она дала ему возможность продолжать учебу в институте. Он же был ее гордостью, ее надеждой, ее единственным сыном, к тому же очень похожим на нее внешне. Только в характере у него не хватало той душевной силы, какой отличалась мать. На фронте, будучи раненным, попал он в такую переделку, что только чудом остался жив. И мать благословляла судьбу за это чудо и всячески оберегала своего любимца, готовая броситься в бой с каждым, кто посмел бы отнять у нее Алика или попытался сделать его несчастным.
Чувство Алика ко мне было первым в его жизни. Когда я уже работала в депо, он пришел к нам на преддипломную практику. А потом, когда практика кончилась, по нескольку раз в день звонил на работу, и только для того, чтобы, как он объяснял, услышать мой голос. Я сердилась:
— Неужели ты не понимаешь, что я на работе и что звонить так часто — неудобно?
Он отвечал совершенно серьезно:
— А неужели ты не понимаешь, что я не могу жить без тебя целый день?
Все во мне откликнулось. И словно оттаяло — впервые после той встречи и расставанья у моря... Ведь Валерий с каждым годом все дальше и дальше уходил в прошлое. А я не умела жить прошлым. Где-то была у Валерия другая, чужая мне жизнь, и ничто, ничто в ней не могло и не должно было принадлежать мне. Алик же принадлежал мне безраздельно — всем своим прошлым, настоящим и будущим. И я привязалась к нему. Я любила его почти с материнской нежностью и, наверное, продолжала бы любить всю жизнь, если бы она иначе сложилась...
6
Беда наступала исподтишка. Боли в ноге, вначале терпимые, повторялись все чаще. Мучительно становилось двигаться, изменилась походка. И вдруг все проходило, и снова вся я была — движение, потому что не могла представить себе жизни без работы, без лыж, без волейбола. Но однажды очередной приступ острой боли в ноге не прошел, как обычно, а сменился тупой, сверлящей, не- прекращающейся болью в спине. Впервые я испугалась по-настоящему. И все-таки, как могла, скрывала этот страх ото всех, кто меня окружал. Я, кажется, пыталась обманывать и себя...
Обычно день мой начинался в половине шестого. Я натощак глотала порошки от боли и бежала на работу. Бежала? Нет, теперь я шла медленно, прихрамывая. И добиралась до депо с единственным желанием — сесть, если уже нельзя лечь. Несколько минут отдыхала и шла в цех. Первые часы работы отвлекали от боли, но потом... В депо очень быстрый темп жизни. Я приноровилась к этому темпу легко и охотно, вероятно он соответствовал складу моего характера. Но как раз этот темп, эта атмосфера движения теперь и тяготили меня сильнее всего. Рабочие заметили это. Сами-то они не боялись ни беготни, ни сквозняков, ни дождя, ни тяжестей, как совсем недавно не боялась всего этого и я. Теперь они стали оберегать меня, как могли. Предупреждали каждое мое движение — я уже не могла ни спрыгнуть в канаву, ни влезть на крышу вагона, ни даже подняться в вагон. Иногда поезд, пришедший вне графика, приходилось осматривать прямо на путях, за воротами депо. Основная аппаратура моторовагонных секций помещается под вагонами. Осматривать ее согнувшись или на корточках я уже не могла, садилась прямо в снег. Тут, откуда ни возьмись, и появлялась удобная скамеечка, и чьи-то заботливые руки подставляли ее:
— Сядьте, Ира, а то простудитесь на снегу...
В обеденный перерыв все шли в столовую, а я поднималась в кабинет главного инженера и, если он уходил, запиралась там и отдыхала на диване. Этот час отдыха давал мне силы доработать до конца дня. Скоро товарищи узнали о моем убежище и стали приносить обед прямо в кабинет.
Как-то, уходя с работы, заметила я группу рабочих, шептавшихся о чем-то. Почувствовала — речь обо мне. Один из них подошел, спросил;
— Может, вас кто обижает, Ира? Вы скажите, — нас много, мы заступимся.
Чтобы скрыть, как я растрогана этой заботой и как страшусь надвигающейся беды, я засмеялась:
— Да я сама кого хочешь обижу!
И, как могла, бодро пошла к выходу, услышав вслед:
— Уж вы обидите...
Если меня встречал после работы Алик, — а он приезжал теперь за мной ежедневно, — отпускали с ним. Если же Алик почему-либо задерживался, тогда вдруг оказывалось. что кому-то из рабочих непременно нужно идти в мою сторону. Я теперь не могла идти прежней ухабистой дорогой к станции и обходила ее кружным путем. Зимой, да еще за городом, дорога была скользкая, и мне одной, не очень твердо державшейся на ногах, идти было опасно.
Незадолго до нового года в отделении дороги созвали совещание инженеров по рационализации и изобретательству. Я сидела в последнем ряду. Главный инженер обратился ко мне с вопросом. Я не расслышала и не смогла ответить. Он повторил вопрос. Все повернулись ко мне, и от волнения я потерялась окончательно. Мне бы сказать, что я ничего не слышу, что я глохну, что на меня надвигается беда. Мне бы крикнуть: «Помогите!..» Но... мне было только двадцать четыре года, и единственное чувство, какое тогда охватило меня, было чувство стыда.
Теперь-то я знаю, что человек должен уметь жить так, чтобы, даже страдая, вызывать к себе уважение, а не жалость.
По графику мне выпало дежурство на линии в предновогоднюю ночь. Мороз был тридцатиградусный. Четвертый квартал, а с ним и отчетный год заканчивались для депо отлично — мы перевыполнили план по всем показателям и рассчитывали завоевать Красное знамя. Оставались одни только сутки, и ответственность за эти последние сутки старого года в ту ночь лежала на мне. Товарищи уходили домой и прощались со мной традиционным «ни пуха ни пера». И они и я были совершенно спокойны. К ночным дежурствам я давно успела привыкнуть, и в ту ночь не было ничего такого, что могло бы вызвать беспокойство. Разве что сильный мороз, когда и людям, и машинам труднее работать.
Звонок раздался около двух часов ночи. Звонили с конечной станции и сообщили, что обе секции первого утреннего поезда «не идут». Отменить поезд? Этого нельзя было допустить, да еще в такой день!
Наспех сформировали сцеп. Разбудили машиниста. Вместо помощника поехала я. Чтобы добраться до станции, надо было по деповским путям доехать до Москвы, а оттуда уже по главной линии, снова мимо депо, отправляться дальше. Выехали из депо — все в порядке. В Москве машинист и я перешли в хвостовой вагон, ставший теперь головным, тронулись и услышали: «стук, стук, стук...» Выбоина! По правилам ехать дальше нельзя. Но ведь мы уже выехали, да и на конечной станции нас ждали. Мы продолжали порожний рейс. Машинист попался не из лучших и, как это почти никогда не бывает у машинистов, никак не мог принять быстрое решение. Тем большая ответственность возлагалась на меня. Мы видели, как путевые рабочие махали нам красными флажками, требовали остановиться, ругались: боялись, что «выбьем» путь. Машинист выглядывал из окна и виновато отвечал:
— Я же потихоньку, вот дотяну до станции и — в депо.
Когда мы проезжали мимо депо — теперь уже по главному пути, — он остановил поезд. Мне предстояло в считанные секунды (поезд не должен стоять на перегоне!) выпрыгнуть из вагона, подняться по склону оврага, добежать до депо и там посоветоваться с дежурным, как гнать. Я спрыгнула и даже не почувствовала боли. Перебежала соседний путь, по которому уже шел встречный поезд. А вот взобраться по снежному скользкому склону оврага так и не смогла. Оглянулась — темно, безлюдно, никто не увидит и не услышит. Тогда я поползла на четвереньках и громко застонала. А ко мне навстречу уже бежал дежурный по депо. Он увидел остановившийся поезд. Увы, других готовых к рейсу секций в депо не было. Да я и сама это знала. Дежурный ушел. Я легла в снег и сползла по склону. Последним усилием ухватилась за поручни дверей. Ногу поднять на лесенку я не смогла. Подтянулась на руках, влезла в вагон, и мы поехали дальше. И — доехали. Точнее говоря, доползли на безопасной скорости до конечной станции. Да еще и непрерывно сигналили, чтобы за звуком сигнала путевые рабочие не услышали стука от выбоины. Мы оба, конечно, понимали, что все равно спешим зря — наш сцеп не выйдет на линию. Но хотелось хотя бы добраться до «пострадавших» и чем-то помочь застрявшему сцепу. На месте аварии уже действовали рабочие. Их вызвали из оборотного депо, и отмены поезда удалось избежать.
7
На праздничном вечере нашему депо вручали переходящее Красное знамя. Было весело, были тайцы, и я танцевала как никогда прежде. Мне казалось, что если я пересилю боль, то болезнь отступит. Вот я и танцевала... последний раз в жизни.
И вообще я думала, что моя болезнь — это мое личное дело, и незачем было нашему руководству поднимать такой шум в деповской поликлинике и спрашивать у врачей, почему меня не лечат. Тем более что меня уже лечили. Просто я слишком поздно обратилась к врачам, потому что не придавала значения первым признакам болезни. А потом, кажется, не придавали серьезного значения этим признакам сами врачи. Рентгеновские снимки вызвали у них тревогу уже тогда, когда костные изменения зашли далеко. Меня направили на консультацию в Центральную клиническую больницу Министерства путей сообщения.
Врач-ортопед Ваграм Петрович Акопов что-то сосредоточенно писал. Лицо его показалось мне некрасивым — большой нос, под белой докторской шапочкой черные, мохнатые, нависшие на глаза брови — из-за них-то, по-видимому, так боялись Акопова малыши и при первом знакомстве с ним плакали. Но стоило Ваграму Петровичу поднять глаза, тоже черные, — и, кроме них, вы уже ничего не видели, такие они были большие, грустные, внимательные и добрые. А когда он еще и улыбнулся мне, на душе стало легко и спокойно. Сколько раз позднее эта улыбка успокаивала и ободряла меня в самые трудные минуты...
Ваграм Петрович поднялся мне навстречу — высокий, стройный, он показался мне теперь гораздо моложе. Походка и движения были у него тоже совсем как у молодого. А было ему тогда пятьдесят четыре года. Беседовал с больными он долго, не торопясь. Осматривал тщательно, очень осторожно, стараясь причинить как можно меньше боли. Сколько раз мне приходилось потом испытывать на себе эту удивительную мягкость его рук, — казалось, уже одно их прикосновение снимает боль.
Я и не думала тогда, в первый раз, что он так прочно и надолго войдет в мою жизнь. Так же, как позже не думала, не могла себе представить, что он, который был для меня в течение целых десяти лет не только лечащим врачом, но и опорой, другом, наставником, что он так скоро и навсегда может уйти из моей жизни и как раз тогда, когда был мне всего нужнее... Впрочем, произошло бы это еще через десять или двадцать лет, и все равно это случилось бы именно тогда, когда он нужен был кому-то сильнее всего.
Близко узнала я этого человека тогда, когда меня уложили в отделение, которым он заведовал.
Он был для всех нас — и маленьких и взрослых — не просто врачом, которому мы безгранично верили, — он был нам отцом, и мы любили его большой благодарной любовью, отвечая ему всем лучшим, что было в нас. Особенно любили Ваграма Петровича дети. Его карманы всегда оттопыривались от конфет, которые он раздавал им. В бокс, где малыши проходили карантин до поступления в общую палату, он приходил всегда с игрушками. Ваграм Петрович был хорошим педагогом и, конечно, не только лечил, но и воспитывал детей, отдавая им все свободное время. Но об этом я расскажу позднее, когда речь пойдет о годах жизни, проведенных в этом отделении. Сейчас же я лишь хочу попытаться набросать самый приблизительный портрет этого чудесного человека, с которым столкнула меня нелегкая моя судьба.
Почти не помню часа, когда бы его не было в стенах больницы. Он и жил-то с семьей прямо на территории больницы и иной раз появлялся в отделении совсем неожиданно — никто не знал, когда и через какую дверь он войдет. К сотрудникам отделения относился он очень требовательно, но я знаю, что его горячо и преданно любили.
Помню, уже гораздо позднее он как-то сказал: «Сестра, которая дежурит ночью, не должна спать. Я уже не говорю, что она может не услышать вовремя звонок больного, требующего помощи. Я просто ставлю себя на место больного — вот он встал ночью и увидел спящую сестру, увидел, что его сон никто не охраняет. Мне, вероятно, стало бы немножко не по себе...» И наверное, не раз, решая сложные вопросы, он ставил себя на место больного.
Он учил нас мужеству. И когда пришло время ему самому пройти самое страшное... Впрочем, я тогда лежала в другой больнице и не знала, когда и как это случилось. От меня скрывали, как мужественно он погибал от рака. Сестры его отделения добровольно и безвозмездно несли дежурство около его постели, а он, страшно мучаясь, старался как можно меньше беспокоить других.
Но это мне рассказали позднее. А ведь все началось на моих глазах. Помню, как, находясь уже дома, услышала по телефону его усталый голос:
— Ты прости меня, голубчик, но что-то я неважно себя чувствую. Приеду посмотреть тебя в другой раз.
Я встревожилась:
— Что с вами?
Он успокоил:
— Ничего страшного.
Он и других успокаивал, и так — до конца.
Последний раз я видела его, когда проходила курс лечения в той же больнице, а он уже был здесь главным врачом. Знаю, что он тяготился административной должностью. Его тянуло в палаты, в операционную, а приходилось решать самые разнообразные, подчас такие мелочные, хозяйственные вопросы.
Как-то вечером он зашел в палату спросить, как я себя чувствую. А чувствовала я себя очень скверно. Ничто не помогало. Моему отчаянию не было границ. Ваграм Петрович присел ко мне на кровать, и я сказала ему слова, которых не прощу себе до самой смерти:
— Ну как же так, ведь вы врач, вы должны помочь мне! Я понимаю, меня нельзя вылечить, нельзя поднять на ноги, но облегчить-то боль, сделать так, чтобы стало легче, ну хоть чуточку легче, это вы должны уметь?
Эти жестокие слова я произнесла шепотом, плакала беззвучно — рядом лежали другие больные. До сих пор не могу понять, как могла я сказать такое? Он сидел рядом и молчал. Даже не утешал. Просто сидел и молчал. Разве я могла тогда знать, что около меня сидит смертельно больной человек? Врачи не могли помочь ему, он не мог помочь мне. И я его обвиняла! Нет, он и тогда ни слова не сказал о своей болезни. А через два дня слег — раковая опухоль захватила печень. И больше я его никогда не видела...
Но вернусь к тому далекому зимнему дню, когда я увидела его впервые. Ваграм Петрович предложил мне лечь в больницу и объяснил, почему настаивает на длительном лечении покоем.
Покой... Непривычное, мертвящее слово. Почему-то вспомнились стихи Блока: «Покой нам только снится...»
Я шла по зимней дороге в блестках, какими посыпают праздничную елку: больница была за городом. С трудом передвигала ноги, время от времени проваливаясь в снег, и думала о грозящей мне неподвижности. Но разве можно остановить жизнь? И как можно жить без движения? Я так спешила, всегда спешила... И так мало успела. Когда-то, когда вела поезд, думала, что «зеленая улица« открыта мне на всю жизнь... А теперь? Как жить теперь? Как? Бороться! И ходить, ходить, пока будут двигаться ноги. Только не сдаваться, только не сдаваться!..
...Одни от страха перед болезнью преувеличивают свои страдания, другие — преуменьшают. Я относилась к числу последних и этим, наверное, только усложнила задачу врачей.
Я продолжала ходить, работать и, как мне тогда казалось, не сдавалась. Не сдавалась, потому что еще какое-то время побеждала неодолимое желание лечь куда угодно: в снег, в грязь, в лужу, но только лечь, дать отдых слабеющим ногам, разгрузить изнемогавший от тяжести тела больной позвоночник...
В депо меня освободили от ночных дежурств. Перевели работать в технический отдел. В цехах я теперь почти не бывала. Но болезнь неумолимо требовала все новых и новых уступок.
Предполагаемый диагноз я скрыла от мамы — она еще не пришла в себя после гибели старшего сына. Но Алику надо было сказать, и я долго готовила себя к этому — как будто угадывала, что не ему меня, а мне его придется поддерживать, Что ж, он принял это внешне даже спокойно и только поздно вечером, уходя, сказал:
— Прошу тебя, не будем пока ничего говорить моей маме.
Мне стало страшно: разделит ли он мою беду? Но я тотчас прогнала эту мысль: ведь мы любим друг друга.
Пришел день, когда я уже не смогла заставить себя встать и идти на работу. И все-таки я еще не верила в серьезность своего положения. Надо было решать что делать. Врачи настаивали на больнице. А в депо товарищи искали других путей. Иван Степанович Щекин откуда-то узнал, что для таких больных, как я, нужна Евпатория, и выхлопотал путевку. Врачи разрешили ехать, но предупредили: никакого лечения, только воздух и утреннее солнце. Пришлось наконец сказать и маме правду о моей болезни. Поезд отходил вечером, провожать меня пришло на вокзал множество людей — вся моя семья, товарищи по работе, Валя Иванова, ну и, конечно, Алик.
Читать повесть "Жить стоит" далее (часть 2).
8890 |

|
Ирина Триус |
 Версия для печати Версия для печати |
| Смотрите также по этой теме: |
Жить стоит. Повесть. Часть 2 (Ирина Триус)
Жить стоит. Повесть. Часть 3 (Ирина Триус)
Жить стоит. Повесть. Часть 4 (Ирина Триус)
Жить стоит. Повесть. Часть 5 (Ирина Триус)


 Марина
Марина
 Психолог Александр Колмановский
Психолог Александр Колмановский
 Михаил Хасьминский, кризисный психолог, член Научно-консультационного совета Московского Межрегионального управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, член Общественного совета федеральной службы исполнения наказаний Минюста РФ, П
Михаил Хасьминский, кризисный психолог, член Научно-консультационного совета Московского Межрегионального управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, член Общественного совета федеральной службы исполнения наказаний Минюста РФ, П
 Александр Колмановский, психолог
Александр Колмановский, психолог
 Дмитрий Семеник, психолог
Дмитрий Семеник, психолог
 Дмитрий Семеник, психолог
Дмитрий Семеник, психолог